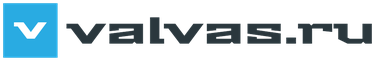Когда разговариваешь с Нютой Федермессер, считаешь каждую минуту — время учредителя фонда помощи хосписам «Вера» и руководителя Центра паллиативной медицины слишком дорого, чтобы тратить его впустую. Так думаешь ты, сама же Нюта никогда не поторопит, не перебьет и не покажет, что в это время ее телефон разрывают звонки, сообщения и письма по десяткам вопросов одновременно. Она, как всегда, спокойна, иронична и с ходу дает понять, что для беседы о благотворительности и хосписах не стоит надевать «скорбное лицо».
— Фонд помощи хосписам «Вера» тратит много сил, чтобы объяснить обществу, что хоспис - это про жизнь, а не про смерть. Как думаете, люди со стороны понимают это?
— Нет, пока нет. Главная проблема в паллиативной помощи на сегодняшний день — отсутствие на нее спроса. Люди вообще не понимают, что это, зачем нужно, что с этим делать. Ведь кто-то даже этих слов не слышал — хоспис и паллиатив. Выбирая новый слоган для фонда помощи хосписам «Вера» — «Жизнь на всю оставшуюся жизнь», — мы проводили исследование, какие ассоциации вызывает у людей понятие «хоспис». Оказалось, это страх, смерть, боль, одиночество. Вот поэтому люди не хотят понимать, боятся. И они стараются максимально отгонять от себя мысль об обращении за помощью в хоспис, даже если у них дома кто-то тяжело болен. Именно поэтому мы решили, что точно берем этот слоган. И основная задача — за три ближайших года такой ассоциативный ряд поменять. Наша любимая фраза, с которой фонд «Вера» прожил больше десяти лет — «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь», — четко и как-то очень правильно вошла в сознание людей и определила место хосписа в системе здравоохранения: это дом для тех, кого нельзя вылечить, но кому можно помочь. И в головах у людей закрепилась эта фраза. Это была, к сожалению, работа не Минздрава, не медиков, а только фонда «Вера». Кстати, это довольно смешно, но в самом начале, лет 10 назад, когда эти плакаты только-только появились в московском метро, нам стали звонить и спрашивать: «Скажите, пожалуйста, это фонд борьбы с наркоманией?» (смеется ). Сейчас таких вопросов уже никто не задает.
— Что вы делали или собираетесь сделать, чтобы вместо вопросов появлялось понимание?
— Мы смогли сформулировать, что одна из ключевых проблем — отсутствие спроса на качество жизни в конце жизни. Люди просто не понимают, что такое хоспис. Как вы можете хотеть съесть устрицу, если даже не знаете, что устрица съедобная. Точно так же здесь. Мы решили, что у нас две основные информационные задачи. Первая — изменить этот ассоциативный ряд, потому что хоспис — это действительно про жизнь и про любовь. Вторая — создать спрос на паллиативную помощь, проинформировать людей, что последние дни жизни можно провести достойно. Последние дни жизни и умирание, кстати, - два совершенно разных понятия. Знаете, если смерть человека наступила быстро — сбила машина, например, — люди вспоминают его последние дни: «Надо же, действительно, он как чувствовал, перед смертью простился». Или, вот, у меня был приятель, который погиб, разбился на машине. Очень хорошо помню, что его мама на похоронах говорила: «Вот я пришла домой, а там раковина разобранная, он ее начал чинить и не починил. И кофе стоит недопитый». У нее всю жизнь это в голове — недочиненная раковина, недопитый кофе и недопрожитая сыном жизнь.
Стало очевидно, что нужно совершенно иначе все это людям объяснять. Вот если мы сформируем понимание, что такое паллиативная помощь и хоспис, люди начнут ровно этого и требовать. Когда приходим в стоматологический кабинет, мы знаем, что там нам сделают превентивное обезболивание. То есть сначала получим инъекцию, а потом нам будут лечить то, отчего нам больно. До этого было иначе. Нам начинали сверлить, и мы говорили: «Ай, вы что! Какой кошмар!» И врач отвечал: «Что, уколоть? Ну, давай, трусиха, уколем!» А еще раньше такие вопросы вообще не обсуждались. Идти к зубному было больно. Зуб удаляли без анестезии, ты вцеплялся в подлокотники или в маму, если маму пускали, и она была рядом. Сегодня ты знаешь, что зубного можно не бояться, потому что место лечения обезболят и это обеспечит комфорт. С паллиативной помощью то же самое. На самом деле, в процессе умирания все достаточно предсказуемо, если человек умирает от прогрессирующего хронического заболевания. Опытные врачи, работающие в этой сфере, расскажут и объяснят родственникам и пациенту, что и как будет происходить. Могут успокоить и снять не только боль, но и страх перед неизвестностью. Есть масса вещей, которые можно обсудить, проговорить, чтобы унять тревоги. Это работа на опережение тяжелых симптомов, погружающих близких людей в состояние ужаса и ада, если смерть происходит без нашего сопровождения. А если шагну чуть-чуть дальше, я вам скажу, что паллиативная помощь и акушерство — это примерно одно и то же. У нас говорят: «А что, раньше рожали под кустом, серпом перерезали пуповину, и ничего, нормально». Когда врачи стараются снижать детскую и материнскую смертность, это они работают на опережение. Врач в акушерстве в начале жизни и врач в паллиативе в ее конце — это врач, который сопровождает процессы. Тут нет задачи вылечить, потому что родиться и умереть — это не болезнь. Это нормальный процесс. Есть задача — сопроводить два очень трудных момента: предупредить сложности, тяжелейшие компоненты, которые могут появиться, и на опережение их отработать. И, второе, нужно донести до людей, поселить в их головах понимание, что паллиативная помощь — это наше право на достоинство, на то, чтобы твои последние дни прошли без боли, грязи и унижения.
Георгий Кардава
— Вы часто сравниваете хоспис с домом…
— Хоспис и есть дом, последний дом. И место любви. Здесь тоже, на самом деле, все довольно просто. Если между нами проговорена правда, если мы перестали друг другу врать и сказали самое главное: «Я умираю, ты это знаешь, я это знаю», то мы начинаем ценить оставшееся время. И тогда мы становимся достаточно мудры, чтобы дрянь и шелуха уходили в сторону. И люди действительно живут. Пациенты хосписа радуются любой погоде, для них нет плохой, потому что любая — прекрасна. Они радуются гостям. Или, наоборот, легко могут сказать: «Вот этот пусть ко мне больше не приходит». У них осталось мало времени, они больше не будут из вежливости чего-то терпеть. Они радуются какой-то любимой еде, лучу солнца, да даже тучам радуются. Для меня удивительной историей стали выборы в хосписе и в центре паллиативной помощи, потому что я впервые видела по-настоящему осознанно голосующих людей. Один мужчина сказал, что не голосовал ни разу в жизни, даже при Советском Союзе все это игнорировал, а сейчас проголосует, потому что у него не будет другого шанса. Женщина была, которая в прямом смысле слова умерла через две-три минуты после того, как проголосовала за Путина, предварительно погладив его фотографию на плакате. И так нежно сказала: «Мой, мой». И это было совершенно невероятно, мы с ее сыном стояли и смеялись от трогательности картины и такого наивного выражения чувств — очень открытого, чего люди на голосовании не делают. Обычно они с суровыми лицами ставят галочку. И после этого я ей сказала: «Ой, слушайте, у меня закончились значки “Я выбирал президента страны”, сейчас сбегаю и принесу вам». Убегаю, через три минуты возвращаюсь и понимаю: сын сидит с ней рядом и еще не видит, а я уже вижу и говорю: «А мама ушла». И это какая-то фантастическая жизнь на всю оставшуюся жизнь, потому что последнее, что ты сделал в жизни, — выбрал президента. Смешно и трогательно.
— Наверное, для многих неожиданно увидеть в хосписе эту «Жизнь на всю оставшуюся жизнь»?
— Когда мы собираемся в больницу или хоспис, то заранее, только выйдя из метро или из машины, надеваем скорбное лицо и готовимся страдать и сочувствовать. А на самом деле пациентам совершенно не хочется тратить оставшееся время на то, чтобы получать это сочувствие. Они отметят ваши новые туфли, скажут — красивые серьги, хорошая прическа. Скажут то, чего вам не скажут тысяча человек за пределами хосписа. Они замечают и говорят именно то, что мы так хотим слышать и никогда не слышим, потому что, рассчитывая на уйму времени впереди и его бесконечность, мы не говорим друг другу главного. Мы позволяем себе поссориться, хлопнуть дверью. «Я тебя ненавижу, давай разведемся», — вот это все. А там только «Я тебя люблю». «Прости, люблю, прощаю, ты лучший». Это ведь в расставании так всегда. Когда мы с ребенком поругаемся, а потом в школу провожаем, все равно его обнимаем: «Крокодил любимый, иди поцелую». Уезжаешь отдыхать, в самолет садишься, стараешься, чтобы остались дела в порядке, родителям позвонишь. А здесь люди расстаются навсегда, и они это знают. Даже если это не проговорено, они посмотрели друг на друга и уже молчанием все сказали. Это концентрация жизни и концентрация любви. Это очень чувствуется, когда вы приходите в хоспис. Там совершенно другое течение времени, какая-то дыра между мирами. Все медленнее, спокойнее. В первом московском хосписе, который в центре Москвы, расцветают крокусы, когда везде еще снег. Там какая-то потрясающая черешня, которая больше нигде в этой части нашей страны не растет.

Георгий Кардава
— Посетители перестают бояться, когда оказываются в хосписе?
— Давайте на конкретном примере. К нам недавно приезжал с визитом Сергей Собянин. И было понятно, что он боится хосписа, так же как любой другой человек, который там никогда не был. Он пришел нервный и первое, что сделал, — замечание фотографу и охраннику: «Что это такое, тут медицинское учреждение, тут тяжелые люди, вы что тут ходите передо мной фотографируете, а вы в наушник свой что-то говорите. А ну-ка все отсюда!» Я говорю: «Сергей Семенович, вот хоспис, давайте покажу вам все». И вижу, как он начинает смотреть по сторонам, и у него, как у каждого родственника, каждого волонтера, которые приходят в первый раз, ступор. Никаких кафельных стен, плохого запаха, рыдающих родственников в черном. Бежит собака. Он изумляется, а я говорю: «Это собака-волонтер. Не к вашему приходу, не подумайте, просто у нас есть собаки-волонтеры». Он сразу реагирует: «У меня тоже собака». Потом я говорю: «Сегодня в хосписе люди расписываются, можем зайти в палату поздравить молодоженов». И мы приходим в палату, где сразу понятно, кто тут пациент. На кровати лежит бледный, зеленый Толя, а Оля суетится рядом. И он так аккуратно-аккуратно начинает с женихом разговаривать, и в этом аккуратном разговоре Толя произносит фразу: «А на двоих с Олей у нас семеро детей». Сергей Семенович меняется в лице и говорит: «Вот это вы даете!», а следом сразу протягивает ему по-мужски руку. И я понимаю: все, лед сломался, страх ушел, мэру уже совершенно неважно, что перед ним умирающий человек. У них случился мужской разговор. Правда, понимаете? Это место правды, где она вылезает в секунду. Фальшь уходит, напускное уходит, поэтому хоспис — про любовь. Но до тех пор, пока мы не сделаем это достоянием общественности, мифы останутся. Надо открывать двери, надо запускать волонтеров, надо рушить эти дурацкие стереотипы.
— Вы разрушаете стереотипы в том числе и при помощи фейсбука, где у вас огромная аудитория. Как находите на это время?
— Уделять этому время стало практически невозможно, из-за чего испытываю угрызения совести и очень страдаю. У меня дикое количество ненаписанных постов в голове и важнейших текстов. Я вообще так устроена, что мне, чтобы понять что-то, надо написать. Как минимум проговорить, произнести вслух — я все-таки филолог по образованию. Это касается любого компонента моей работы. И если я написала текст, то обязательно его вслух прочитываю, проговариваю, чтобы понять, правильно ли у меня расставлены слова и акценты. И я прямо физически страдаю, что не успеваю. Нужно больше рассказывать, больше фотографировать. Мне нужны фотографии жизни в хосписе и центре паллиативной помощи. Мне нужны фотографии волонтеров, репортажные фотографии того, что происходит, и какие-то хотя бы минимальные комментарии к этим кадрам. Ведь цель — именно снятие барьеров, информирование. В общем, я очень осознанно к этому отношусь и слежу за подписчиками и их реакцией. В результате живу с телефоном в душе, в туалете, на отдыхе. Говорю старшему сыну: «Слушай, с тобой невозможно сидеть за столом, я тебя все время вижу с телефоном, опусти его наконец». Он отвечает: «А с тобой?» Ведь я сижу точно так же, только у меня телефон не перед носом, а лежит на столе. И я вижу, на каких-то совещаниях все как порядочные слушают и записывают, а я сижу и отрабатываю моторику пальцев.
Пациенты хосписа замечают и говорят то, чего мы так хотим слышать и никогда не слышим. Потому что, рассчитывая на уйму времени впереди и его бесконечность, мы не говорим друг другу главного
— Если говорить о тенденциях в сфере благотворительности, какие сейчас происходят изменения?
— Мне кажется, становится меньше благотворительных мероприятий, особенно в Москве. Может, в других городах и регионах это еще нарастает, а у нас уже сходит на нет, потому что Москва — город, живущий в диком темпе, которому очень быстро все надоедает и который быстро от всего устает. Попробуй сейчас позвать народ на благотворительный аукцион. «Фу, мы уже были на таких 20 раз». «Ну и что, что будет Ургант вести, все равно это все уже было». Нужно все время придумывать новые и новые способы. И еще сейчас, слава Богу, мы можем наконец сказать, что благотворительность становится не модой, а нормой. И тот факт, что люди стали подписываться на рекурентные платежи (ежемесячные постоянные платежи. — Прим. «РБК Стиль» ), как раз значит, что мода сменилась сознательностью. Модно — это когда ты купил определенную неслучайную сумку и ходишь с ней, чтобы все видели, обращали внимание, обсуждали. Рекурентные платежи — уже норма, и это абсолютное счастье. Благотворительность — это ведь не что-то невероятно высокое — «благо творить». Нет, «donation» — более мирное и иного штиля слово. И даже слово «жертвовать» мне тоже не очень нравится, потому что нет в этом никакой жертвенности. Это просто твоя гражданская сознательность. Чехов писал, что в дверь каждого счастливого человека нужно стучать и напоминать, что есть несчастные. Так вот и в совесть нужно стучаться и напоминать, что кому-то хуже. Удивительно сказал про хосписы академик Лихачев: они очень важны нашему обществу, в котором уровень боли превзошел все мыслимые пределы. И хоспис — это возможность оправдать свое существование, помочь. И здесь важно, что весь пафос уходит. Для нас всех благотворительность сейчас уже становится гигиеной. Вот как мы понимаем, что нельзя не почистить зубы утром, не посмотреть фильм «Лето», так же понимаем, что нельзя не быть подписанным на рекурентные платежи того или иного фонда. Рано или поздно, увы, беда придет в каждый дом. Помогая другим, мы помогаем прежде всего себе, потому что получаем уверенность, что эта гигиена общества и на нас тоже распространится, успокаиваем себя. То, что мода на благотворительность, как нам кажется, проходит, означает не что она уходит, а приобретает совершенно другие масштабы. Прибегая к сравнениям из мира моды, раньше благотворительность была кутюром, а теперь становится прет-а-порте. Давно пора.
— А что касается деления на публичную и непубличную помощь?
— С пониманием отношусь к людям, которые говорят: «Да, я готов помогать, но непублично». Понимаю их мотивы, но хочу их всех встряхнуть и прокричать: «Это неправильно!» У нас только все стало приходить к норме, но для этого нужно приложить еще столько усилий. Нам жутко не хватает ролевых моделей. Людям хочется опираться на кого-то, кому они доверяют, кого привыкли видеть по телевизору, в газетах или журналах. Мы пока не имеем права помогать тихо, мы должны помогать громко. Известный человек может за один раз привлечь 1000 неизвестных людей, которые подпишутся на рекурентные платежи, и безответственно как раз молчать про благотворительность.

Георгий Кардава
— Сейчас, например, можно купить футболку с принтом (футболка «Не жизнь, а сказка», выпущенная в честь одноименной книги Алены Долецкой. — Прим. «РБК Стиль» ) в поддержку фонда помощи хосписам «Вера». Тоже одна из форм публичного заявления, еще и модная.
— Да, это все очень важно. Я вот вообще немодный человек, не знаю всех этих тенденций, имен. Мне важно, во-первых, чтобы было удобно, а во-вторых, невыпендрежно. Одежда — это самовыражение, ты одеваешься так, как себя видишь. И когда смотрю условный «Модный приговор», меня охватывает боль за людей: да, они стали очень красивыми, преобразились, но до этого момента, когда все ругали, была она, а теперь какая-то совершенно чужая тетенька, уже не она. Я просто обожаю принты — где угодно, потому что это про тебя. Ты никогда не наденешь футболку с надписью, которую с собой не соотносишь. И это никогда не выйдет из моды, это будет актуально всегда, потому что дает возможность сказать все с закрытым ртом. На днях я поменяла фотографию профиля в фейсбуке: теперь я в футболке с надписью «Осторожно! Не корригирую свою речевую продукцию», которую мне подарил член нашего правления. И какое-то невероятное количество людей уже сказали: «Нюта, мы хотим такую же». И я уже ищу, кто мне напечатает эти футболки, уже считаю, сколько мы сможем на них заработать, запоминаю тех, кто захотел, чтобы они потом не смогли откосить (смеется ).
Любой в футболке «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» — это человек, который несет удивительные знания в мир. Каждый человек в футболке Алены Долецкой — это тот, кто несет тепло. Любой в футболке «Я не корригирую свою речевую продукцию» — человек, на груди которого на самом деле написано «Прекратите врать». И это все очень важно. Любым способом мы должны доносить до людей информацию, что они имеют право на достоинство и обезболивание в конце жизни.
— Людей, занимающихся благотворительностью, часто спрашивают про эмоциональное выгорание. Вы с ним сталкивались?
— Я не верю в эмоциональное выгорание. Если человек правильно выбрал сферу деятельности, то его работа — не выгорание, а «загорание». Она поднимает до небес. Если мне совсем хреново, я иду в стационар к пациентам и родственникам. Мне бывает тяжело в чиновничьих кабинетах, очень сложно заниматься финансами, я от этого просто вешаюсь. Непросто даются многие аспекты работы, но только не те, про которые как раз говорят: «Ой, как, наверное, тяжело в хосписе-то, у вас же больные “выздоравливают”, как мухи, как вы там справляетесь?» Да прекрасно справляемся. Более благодарной сферы в медицине нет, потому что ежесекундно чувствуешь свою полезность. Заходишь в четырехместную палату и не можешь оттуда выйти, потому что там четыре человека, и каждому ты нужен: свет ярче сделать, штору расправить, окно открыть; дует, тепло, холодно, повернуть ногу, чашку помыть, попить дать, зубы поправить, ухо почесать — это бесконечность. Ты и секунды не чувствуешь, что не у дел. Мы ведь все рано или поздно умрем, но то, что каждым своим движением, каждым действием ты приносишь человеку очевидную пользу, — настоящий наркотик. Это так тебя зажигает и уж точно не выжигает.
В паллиативной помощи родственники, которые потеряли ребенка, маму, мужа, брата, приходят к нам в гости годами, чтобы выразить признательность. Какое тут эмоциональное выгорание? Я сдохну, наверное, от усталости, но не от эмоционального выгорания (смеется ). Если меня отключить от работы, я сойду с ума. Выгорает тот, кто не на своем месте. Думаю, это касается любой области. Вот, работая в банке, я бы, наверное, точно выгорела. Хотя, думаю, скорее бы взорвала его (смеется )...
Практически все мы отравлены непонятно откуда появившимся мифом о том, что распиаренная благотворительность - это христианское дело милосердия. И исходя из него, мы создаем другой миф - о том, что известные благотворительницы являются православными женщинами. Это совсем не так. Если мы, например, присмотримся к одной из этих женщин - Нюте Федермессер, мы увидим, что она вызывает проституток к умирающим, оправдывает страшные смертные грехи, но при этом обвиняет православную Церковь.
Проститутка для умирающих
Недавно в Сети появилась чудовищная видеозапись под названием «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Это выступление Федермессер перед публикой. В начале выступления она расказала о таком случае: «Совсем недавно в московский Центр паллиативной помощи перевели 16-летнего мальчишку. Он довольно скоро понял, что условия здесь совсем не такие, как в больнице: все можно. Когда я ему сказала: «Дим, что хочешь?», он ответил: «Покурить и пива». Это легко организовали».
Но это еще были цветочки. Ближе к концу выступления Федермессер рассказала более жуткую историю: «Недавно один парень с расеянным склерозом женщину захотел. На самом деле нет ничего невозможного для руководителя учреждения, если пациент хочет. Можно и женщину обеспечить. Прекрасная женщина. Не раз еще придет к нам - я уверена». То есть, говоря по-русски, Нюта Федермессер, руководитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы - Центра паллиативной помощи - вызвала к умирающему парню проститутку. А потом она, никого не стесняясь, сообщила широкой публике о том, что будет вызывать проституток к своим пациентам и дальше.
Предоставлять умирающим подобного рода услуги - это фактический сатанизм. Сами благотворительницы могут считать себя кем угодно - даже православными христианками. Но на деле они помогают пациентам исполнять заповедь сатанистов, которая гласит: не подавляй в себе стремлений и желаний. Все эти пациенты не имеют времени на покаяние, и поэтому курение, выпивка и забавы с проститутками приведут их в ад. И, кстати говоря, деньги на проституток, алкоголь и сигареты, идут, скорее всего, из благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» - ведь не из московского бюджета же их берут и не вычитают же их из зарплаты врачей и медсестер.
Слово в защиту самоубийства
В 2014 году Федермессер написала в «Снобе» о том, что эвтаназия вполне приемлема, и что она готова выступить за ее легализацию в России. Но сделала она это лукаво. Лукавство вообще присуще знаменитым благотворительницам.
Вот что написала Нюта Федермессер в своей колонке в «Снобе»: «В странах, где разрешена детская и взрослая эвтаназия, уровень паллиативной помощи и медицины в целом гораздо выше, чем в России. Нужно поднять паллиативную помощь до мирового уровня и только после этого думать о разрешении эвтаназии. Сначала надо сделать так, чтобы человек мог выбирать: хочешь - лечись, хочешь - получай паллиативную помощь, хочешь - иди в хоспис, где тебя ждут и любят. А если ничего не хочешь, тогда давай подумаем о другом варианте. Когда паллиативная помощь в России будет на том же уровне, что и в развитых странах, - лет, может быть, через 20 - тогда я, возможно, первая подниму вопрос об эвтаназии. Но пока о ней говорить рано, я в нее не верю».
Между тем, Русская Православная Церковь однозначно осудила эвтаназию как убийство со стороны врача и самоубийство со стороны пациента.
Поддержка сексуальных извращенцев
26 июня 2016 года Нюта Федермессер написала на своей странице в «Фейсбуке» пост в защиту гомосексуалистов и лесбиянок: «Поддерживаю всех, кто решился подписать это обращение. Надеюсь, что доживу до того дня, когда все мои знакомые ЛГБТ-друзья смогут открыто гулять по городу и ездить в метро, держась за руки. Как это делаем мы с мужем».
И в этом же посте благотворительница дает ссылку на обращение ЛГБТ-сообщества к православному собору на Крите, которое ей так понравилось. В нем извращенцы просят православных не осуждать содомский грех и не отлучать гомосексуалистов от причастия. При этом гомосеки не постыдились написать архиереям, что Священное Писание «дает примеры утешения и благословения» сексуальным извращенцам. Хотя даже человек, никогда не учившийся в семинарии, может без проблем опровергнуть эту хамскую ложь. Апостол Павел говорит в 1-й главе Послания к Римлянам: «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». А в 6-й главе Первого послания Коринфянам апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют».
Священникам запрещено проповедовать умирающим
2 июня 2017 года благотворительница написала в своем «Фейсбуке», что православные священники не должны проповедовать умирающим о Христе: «В хосписы по всей стране практически всегда приходят священники. Кто за чем, кто больным помочь, а кто и помиссионерстовать, что в хосписе с нашими уязвимыми и несамостоятельными пациентами совершенно недопустимо».
Поскольку Федермессер является не только учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», но и директором Центра паллиативной медицины, в ее Центре священники, вероятно, могут только причащать тех больных, которые их к себе позвали (по-моему, это разрешено во всех больницах). Все остальные пациенты не имеют никакого шанса попасть в Царство Небесное или хотя бы очистить часть своих грехов в таинстве исповеди - ведь проповедь-то там запрещена. Она воспринимается там как агрессия, как психологический террор по отношению к беспомощным людям, которые не могут сами за себя постоять.
Вот что в Центре Федермессер не считается агрессией и террором - исполнение любой блажи пациента. Когда телеведущие и журналисты спрашивают у благотворительницы, зачем нужен фонд помощи хосписам «Вера», если такого рода больницы финансирует государство, она отвечает, что государство не может выполнить любое желание умирающего. Например, молодой парень захотел Вайфай, и ему надо срочно его обеспечить, а то пациент может вскорости передумать, а через неделю и вовсе умереть. Или мечтала умирающая съездить в Санкт-Петербург, и фонд нашел для нее деньги, и вот скоро эта женщина отправится вместе со своей дочерью в вояж. А одна пациентка захотела потрогать бархат, и ей принесли 15 кусков бархата с разным ворсом. «Она уже не могла шевелить рукой, и этот ворс ей подкладывали под пальцы, гладили им по щеке, и она улыбалась», - рассказала в одном интервью Федермессер.
Я вовсе не выступаю за то, чтобы кормить людей манной кашей и поить их холодным кипяченым молоком с пенкой, которыми меня травили на завтраках в советской школе. Пусть умирающие находятся в цивилизованных условиях и питаются как нормальные люди. Но к чему отвлекать их мысли от отверзающейся перед ними вечности и переключать на шелуху? Ведь благодаря такой политике пациенты придут на тот свет неподготовленными и с первого же мытарства будут свержены в ад на веки-вечные. Эти люди выйдут из тьмы кромешной только один раз - на Страшный суд, чтобы бросить в лицо Федермессер куски бархата и спросить: «Почему ты не разрешила отцу Петру и отцу Иоанну сказать нам о том, как важно перед смертью покаяться в своих грехах на исповеди и причаститься?» Священники, которых не пустили в хоспис с проповедью, выйдут со Страшного суда оправданными, а вся кровь навеки погибших пациентов Федермессер падет на ее голову.
Благотворительница хочет поставить к себе на службу РПЦ
Однако Федермессер придумала, как можно использовать священников и архиереев Русской Православной Церкви. 2 июня 2017 года она с большим апломбом пишет в своем посте в «Фейсбуке»: «Если Первый канал может собирать деньги на благотворительность с миллионов сограждан, то РПЦ может проинформировать эти миллионы о том, что если человека нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя помочь».
И даже вот до какой наглости дошла в том же посте эта женщина: «А ответственность РПЦ рассказать своему народу, что боль терпеть нельзя, что боль - унижает и лишает человека права на кончину мирную и непостыдную». То есть тут благотворительница пишет, что священники должны наплевать на всех святых отцов, прославившихся чудотворениями, которые говорили, что надо все терпеть, в том числе и боль, и начать по указанию Федермессер нести околесицу, противоречащую истине. Я уж не говорю о том, что в этой фразе благотворительницы видны признаки просто дикой гордыни.
В том же посте Федермессер вдоволь поиздевалась над истиной о том, что страдания попускаются за грехи и что они полезны, а также набросилась на православных. Вот ее выпад против христиан: «Я совершенно не могу спокойно слушать, когда люди (не важно, священники или прихожане, сестры милосердия или родственники пациентов) говорят, что страдания посланы нам для искупления, что через страдания мы приходим к вере, что пациенты наши - православные люди, и поэтому они признательны Господу за целительные мучения перед смертью».
Из этого пассажа Федермессер следует, что дай ей в руки книгу какого-нибудь святого, и она взбесится. Например, преподобный Макарий Оптинский писал: «Терпение болезни с благодарением выше других исправлений пред Богом: ими и грехи очищаются, и от страстей избавляются». А праведный Иоанн Кроншдтадтский призывал в письме своего знакомого к терпению сильных болей: «И при сильных ударах или корчах болезни уповай, что Бог не только от болезни, но и от самой смерти силен избавить тебя, если Ему угодно; не пощади, не возлюби для Него тела своего тленного, но отдай его добровольно и всецело Господу, как Авраам сына своего Исаака во всесожжение, в волю наказующего тебя Господа, не теряя веру в благость Божию, не падая духом, не давая и устами безумия Богу, якобы неправедно тебя наказующему, - и ты принесешь великую жертву Богу, как Авраам или как мученик».
Я не выступаю за то, чтобы отменить все обезболивающие, начиная с анальгина - я и сама периодически покупаю себе анальгин. Но я не считаю, что высшей ценностью является земная жизнь со всеми удобствами - без болей, без дождей, без зноя, и что в борьбе за эти удобства надо доходить до ропота и богоборческих высказываний вроде тех, что Бог унижает человека сильной болью. Также я знаю, что Бог ничего не попустит человеку выше его сил. И если Он не дал обезболивающее конкретному человеку, значит, этот человек в состоянии перенести эту боль без обезболивающего.
Странная религиозная принадлежность
Вот что пишет Федермессер в том же посте от 2 июня 2017 года про свое отношение к религии: «Я вовсе не самый религиозный человек. Обряды я люблю все, потому что это красиво, и православные, и католические, и иудейские. И в храм могу зайти в любой, если почувствую потребность, а могу и не ходить долго. Я закончила воскресную церковную школу, и знаю много того, чего не знает большинство прихожан, и я с удовольствием подпеваю в храме, когда там оказываюсь. Я живу в огромной стране, я полукровка, я выкрест, и у меня муж еврей».
Отсюда мы в очередной раз видим, что Федермессер не имеет никакого отношения к православию, потому что православный человек не будет шататься по католическим и иудейским местам собраний. И в очередной раз мы видим, что у нее гонора выше крыши - она, оказывается, знает много того, чего не знает большинство членов Церкви.
А вот что благотворительница пишет в «Фейсбуке» 12 августа 2014 года: «Не люблю церковь, хоть и считаю себя верующим человеком, не люблю служителей культа, что странно, ведь меня лично жизнь сводила с совершенно потрясающими священниками, на которых хочется во всем равняться. Люблю обряды, традиционные, красивые, торжественные, и боюсь людей, у которых все крутится вокруг обрядовой части (от обязательного креста перед трапезой и поста до венчания и пасхальной всенощной). Но есть два человека, с которыми сегодня хочется делиться и спрашивать их совета, с которыми очень хочется дружить по-настоящему, но я трушу. Зачем им тратить на меня и мои дела свое время. Это Отец Христофор Хилл, и Отец Алексей Уминский. Мне бы хоть чуточку их мозгов, мудрости, знаний, терпения».
Священник Христофор Хилл - это ученик еретика-модерниста митрополита Антония Сурожского, который стоял у истоков создания первого московского хосписа матери Федермессер Веры Миллионщиковой. Кстати говоря, в холле этого хосписа стоит скульптура католички матери Терезы. В руках эта еретичка держит свои заповеди. А протоиерей Алексий Уминский - это такой еретик-модернист, каких еще надо поискать. Он даже считает сомнительными четыре таинства из семи и говорит, что все православные люди являются священниками.
Кстати, протоиерея Алексия Уминского, митрополита Антония Сурожского и еще нескольких других модернистов любит и Лидия Мониава, которая высказывается не только в поддержку эвтаназии и гомосексуалистов, но и в поддержку абортов. И обе эти благотворительницы - и Федермессер, и Мониава - публикуются на сайте модернистского портала «Православие и мир». Публикуется там же и третья знаменитая благотворительница - католичка Татьяна Краснова, у которой также, как и у Мониавы с Федермессер, накопились претензии к православной Церкви. То есть налицо тесная связь раскрученной благотворительности с модернизмом, работающим на разрушение Церкви, и налицо их взаимная любовь.
Федермессер подсознательно понимает, что в Царство Небесное она не попадет. Как-то раз Владимир Познер спросил благотворительницу, что она скажет Богу, когда встретится с Ним, а та ответила: «Я не думаю, что я с Ним встречусь». Федермесер полагает, что когда умрет, то встретится только со своими близкими людьми. Между тем, известно, что в рай попадают лишь те, кто стремится к Богу, те, кто любит Его, и первым делом они видят там Бога, а потом уже идут к людям, находящимся в раю.
Фарисейство открывает перед людьми даже запертые двери
Интересно сравнить Нюту Федермессер с действительно православными и святыми женщинами, которые при жизни помогали больным и скорбящим. Не буду сравнивать ее с блаженной Матроной Московской, потому что эта святая все же творила чудеса. Возьмем жизнь страстотерпицы царицы Александры, которая очень активно занималась благотворительностью, а также, выражаясь современным языком, волонтерством, - выучившись на сестру милосердия, святая помогала в госпитале при операциях и сидела в палатах рядом с кроватями тяжелораненых. Так вот царица Александра ничего не имела со своей благотворительности в плане мирском. Представители высших кругов общества клеветали на нее, а газеты поливали ее грязью. Хотя у царицы Александры были огромные возможности - она могла бы раструбить о своих добрых делах по всей стране и тем привлечь к себе внимание и любовь огромного количества людей. А то, что люди не только в наш безумный век умели трубить о своих добрых делах, мы знаем даже из Евангелия, которое было написано две тысячи лет назад. Уже две тысячи лет назад фарисеи в полной мере владели такими технологиями.
А что же мы видим в отношении Нюты Федермессер? Она родилась в обычной советской семье, но ее благотворительность вывела ее в высшие слои населения, так что теперь она завтракает на приеме у первой леди Армении, а отправляет ее на эту встречу няня, воспитывающая ее детей. Обо всем этом можно узнать из недавней записи благотворительницы в «Фейсбуке». Оттуда же можно узнать, что она теперь является доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина - то есть действующего градоначальника 12-миллионного города. А в Википедии говорится, что в 2012 году благотворительницу наградили знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Плюс почет и уважение всей страны, постоянные упоминания в СМИ и интервью российским телеканалам.
Я, кстати, вчера посмотрела на Ютубе несколько выступлений Федермессер в телепередачах. Надо сказать, что я телевизор не смотрю лет восемь. В последние несколько лет информацию получаю только из православных книг и богослужебных текстов - во всех них бездна смысла и глубина мысли. И вот когда я вчера смотрела телепередачи с участием Федермессер, я просто была поражена. Какая же это пустота! Какие же пустые и неинтересные люди сама Нюта Федермессер и телеведущие, которые с ней беседовали! Они мелют языками по 40 минут, а ничего за их словами не стоит.
То, что фарисейство (желание выставить свои добрые дела напоказ), Федермессер не чуждо, можно увидеть, например, из ее «Фейсбука», а также из ее статьи в «Новой газете» в 2011 году. В статье благотворительница рассказала о том, какая она хорошая: выходит из кабинета, чтобы ехать домой, встречает в холле хосписа горюющих родственников и от преизбытка доброты задерживается с ними на три часа. Также в этой статье благотворительница описывает, как ей тяжело: «Иногда силы кончаются, хочется поныть. Очень! Ничего не получается, не знаю, как быть, все плохо. А муж мне говорит: ты дура?! Вот людям, которым нужен хоспис, - им плохо! А у нас все здорово!» Сколько людей в нашей стране испытывают страшные страдания, даже не сравнимые с переживаниями Федермессер, но многие ли из них выходят в публичное пространство со своими скорбями? Нет. Потому что большинство наших людей не хочет получать дивиденды со своих страданий и стричь купоны со своих переживаний.
Архиепископ Аверкий (Таушев), который жил не так давно, описал в своих речах и статьях многое из того, что происходит и в наши дни. Вот что он говорил про современных фарисеев: «Фарисейство теперь, в большинстве случаев, не только не осуждается, а наоборот - похваляется. Фарисеи имеют успех в современной жизни: их часто предпочитают людям прямым, честным и искренним», «И они, ведя себя так, действительно мало-помалу приобретают уверенность в том, что они всегда и во всем правы, что другим людям - до них далеко, что они - «не таковы, как другие», а гораздо выше, разумнее и лучше других, хотя бы наружно, на словах, они и смиренничали. Ловкими ухищрениями, иногда искусным лицедейством-актерством они умеют нередко и других, окружающих их, убедить в этом - в своих непревзойденных добрых качествах, в своей «добродетели», в своей несравненной духовной высоте, приобретая себе уважение и даже преклонение от многих, что им и нужно».
Алла Тучкова, журналист
Полтора года назад учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер возглавила Центр паллиативной помощи в Москве. В её ведении оказалось девять московских хосписов и выездная служба помощи неизлечимо больным пациентам.
Федермессер - дочь Веры Миллионщиковой, врача и одного из основателей направления паллиативной помощи в России. Она с 17 лет работала волонтёром в Первом московском хосписе, который теперь носит имя Миллионщиковой. Этот хоспис всегда отличался от других подобных учреждений, и, когда Федермессер возглавила всё направление государственной паллиативной помощи в Москве, она решила переделать систему и сделать её такой, как в Первом хосписе.
«Секрет» поговорил с Федермессер о том, как сделать бюджетную медицину более человечной, как фонду «Вера» удаётся собирать около 500 млн рублей в год и помогать хосписам и нуждающимся пациентам по всей стране, и о том, как в России меняется отношение к смерти и паллиативной медицине.
Я собиралась начать с игривого вопроса, мол, год назад вы писали в фейсбуке пост, как много у вас работы, и как мало времени остаётся на семью, а недавно расшарили его с подписью: «Многое изменилось». Так вот, я думала, речь о том, что удалось наладить work-life balance, это же самый животрепещущий вопрос для деловых людей. Но послушала, как вы провели вчерашний вечер и ночь (в офисе «Фонда»), и какое у вас расписание на ближайшие дни, и вопрос отпал…
У меня нету work-life balance, work is life, но я перестала от этого страдать. Не так давно, может быть полгода назад. Я вдруг подумала, что может быть у меня впереди не очень много времени, и я всё равно не умею быть примерной женой и матерью. Я помню, когда у меня дети были маленькие, а работы было меньше, чем сейчас, но она всё равно была, самой большой пыткой было пойти с ребёнком на прогулку в песочницу. Я не понимала, зачем сидеть и смотреть, как он лепит куличики. Когда я поехала в Кембридж учиться, предпочитала в качестве подработки стирать, гладить, мыть, делать какую угодно Housework, только не с детьми сидеть.
Мне кажется нужно как-то перестать изводить себя чувством вины и честно признаться самой себе, что ты эффективнее там, где тебе хорошо, где ты ловишь кайф, и тогда становится спокойно всем, включая семью. Мне кажется, что и семье стало комфортно с тех пор, как я перестала есть себя поедом за то, что меня в семье мало. Раньше я пыталась в короткое время, что была дома, впихнуть всё на свете. Я была уставшая, а надо было и приготовить, и на родительское собрание сходить, и в театр, и улыбнуться, а сил не было на эту игру. Ну и я плюнула, теперь прихожу, ложусь, они ложатся рядом или скачут по мне, и всем хорошо. Но, конечно, в любой форс-мажорной ситуации семья будет на первом плане, и работа неизбежно отодвинется.
Полтора года назад вы стали госслужащим, и поставили перед собой сложную задачу сделать госучреждение более милосердным. Какие управленческие вызовы перед вами встали?
Вы знаете, «управленческие вызовы» и «милосердие» - это разные штуки. Сделать более милосердными, мне кажется, вообще не сложно. Это не лежит в плоскости управленческих решений, это в плоскости стратегических решений. Каким ты видишь результат? Какой ты хочешь, чтобы была компания или фонд, или паллиативный центр. Есть очень крутые человекоориентированные компании. Я хорошо помню, как несколько лет назад пришла в офис корпорации «Открытие», и меня поразило, какой там буфет для персонала, и какие туалеты. Это ведь не управленческое решение менеджера, это стратегическое: сотрудники работают лучше, если для них созданы человеческие условия.
В этом смысле мне всё было понятно, у меня была ясная картина, что и как нужно делать. Мне не сложно было доносить до людей, зачем я прошу их работать иначе, но им было сложно перестраиваться. Они не привыкли жить в ситуации открытых 24/7 дверей, они не привыкли, что в их работе постоянно принимают участие другие люди, не медики, а координаторы, волонтёры, аниматоры, ивент-менеджеры - все те, кто занимается оказанием немедицинской помощи паллиативным пациентам, те, кто создает ощущение жизни.
Помню была такая ситуация: мы повесили объявление при входе: «Уважаемые родственники и близкие наших пациентов, у нас посещение разрешено круглосуточно, вы можете приходить с детьми любого возраста, у нас нет платных услуг, наши сотрудники получают достойные зарплаты, и мы просим вас не обижать их финансовой благодарностью». Первое время эти объявления каждый день срывали. Я вешаю - их срывают, опять вешаю - опять срывают. Я на утренней конференции с сотрудниками говорю: «Ребята, бумаги много. Честное слово, я вас переупрямлю». На каком-то этапе «у нас достойные зарплаты» было зачёркнуто, и сверху написано: «Брехня». Тогда я впервые как следует погрузилась в финансовую часть и поняла, что действительно не у всех зарплаты достойные. Сейчас уже очень изменилась ситуация.
Однажды я приехала часов в 11 вечера в центр на ул. Двинцев, смотрю - входная дверь перекрыта неотёсанной деревяшкой грязной. Я к охраннику: «Вы знаете, что у нас посещения круглосуточные?» «Конечно!» «А чего дверь перекрыли?» «А у нас чёрный ход открыт, где трупы вывозят». Я даже не предполагала, что так хорошо могу швырять доски на далёкие расстояния.
Сложные изменения на уровне менталитета, получения новых знаний. Нам нужно было менять систему с обезболиванием, а это не решается забиванием сейфов морфином. И это не решается разговором с врачом: «У вас тут всем больно, а завтра надо, чтобы всем было не больно». Они должны научиться выявлять боль, измерять боль, знать, кому какой препарат подходит. Работа над этим шла год. У нас был главврач Олег Викторович Жилин, у него была его ключевая задача на год - научить персонал правильно обезболивать пациентов, не бояться, и он с ней справился месяцев за шесть. Примерно в 100 раз выросло употребление морфина в нашей сети. Люди перестали страдать. Представляете, как было до этого.
- А в чём была проблема? Обезболивающее экономили?
Просто не хотели морочиться. Проще было давать горы простых обезболивающих, чем один раз морфин назначить. Были катастрофические вещи, о которых даже не хочется говорить. Кто-то привязан, не мыт, плохо пахнет, это не нужно озвучивать даже, потому что это не имеет права на существование.
- Вы многих уволили?
Очень много людей было уволено и, к сожалению, увольнения ещё будут. Это неизбежно. Но нельзя сразу уволить всех, кто не справляется, даже если хочется. Управленческое звено, конечно, почти целиком ушло сразу. Скандала не было, просто они полагали, что я приду со своей командой. А моя проблема была в том, что команду я не привела, - я не могла ослабить фонд «Вера», хотя до сих пор хочется человек 10-15 оттуда выдернуть.
- Он автономно от вас работает?
Я учредитель и член правления, но он работает абсолютно автономно. Если говорить про какие-то заслуги и успехи - вот это заслуга: ты что-то сделал, ушёл, а оно само работает. Это кайф.
- Не бывает желания всё переделать, когда приходите туда?
Нет. Меня постоянно обвиняют в том, что я занимаюсь микроменеджментом и во всё лезу, но фонд «Вера» как раз доказывает, что это не так. Есть принципиальные вещи, которые мы с директором Юлией Матвеевой обговорили, и всё. Конечно, мне приятно, когда со мной советуются (а со мной советуются всё меньше), но команда там очень подходит мне по духу, мы одинаково мыслим, у нас голова и сердце общие, и они прекрасно справляются без меня.
Вообще правильно подобранная команда - это самое важное, и это отчасти компенсирует отсутствие менеджерского опыта и образования. Я всему училась на своих ошибках, потому что я - очень упрямая, и только сейчас я начинаю делать то, что мне советовали умные люди три года назад, пять лет назад, десять лет назад.
- Это какие, например?
Несколько лет назад мне советовал Дима Ямпольский, председатель правления фонда «Вера», написать стратегический план на год, пять, десять лет вперёд. Я думала: боже мой, что за человек? У меня тут памперсов не хватает, какой план? Тем не менее, я написала и забыла про это. А когда уходила из фонда, мы нашли эти бумажки, читали и хохотали: абсолютно всё сбылось. Теперь я вообще не могу без плана на год, три, пять и десять работать. Ни по одному направлению.
Ещё мне говорили: вам нужен помощник, вам нужно, чтобы совещания проходили вот так, вам нужно, чтобы день ваш строился вот так, иначе вы сорвётесь. И все эти советы были абсолютно правильные, потому что люди с менеджерским опытом видели динамику, которую я, находясь внутри, не могла оценить.
Фото: © Анатолий Жданов / Коммерсантъ
- Так всё-таки, что со сложными управленческими решениями?
Сложное управленческое решение для меня - лишить человека премии. Мне кажется, что люди делают потрясающую работу, кто-то лучше, кто-то - хуже, но в любом случае она стоит дороже, чем люди зарабатывают и в фонде, и в хосписах, и в центре паллиативной помощи. И вычесть у врача 10 000 или у сестры 5 000 - сложно. Потому что 60 000 зарплата медсестры минус 5 000 - это значимо. И 100 000 зарплата врача минус 10 000 - это много. Я могу только говорить им на утренних конференциях или на обходах, какие были ошибки, и стараюсь говорить всем, не выделяя конкретного человека.
При этом уволить человека мне уже не сложно. Я понимаю: есть задача, есть функции, которые сотрудник должен выполнять. Не выполняешь - извини. Увольнение это не про людей, а про то, что дело страдает. Когда фонд «Вера» был маленький, уход каждого человека я воспринимала как трагедию, мне казалось, что всё рушится. Сейчас - нет. Все, кто на своем месте – останутся.
Когда я пришла в Центр паллиативной помощи, я очень быстро узнала много разной информации, в том числе неофициальный прейскурант: кто за что и сколько брал. Мне писали в фейсбук: мы лежали в таком-то отделении, было то-то и то-то. Конечно, это помогает расставаться с людьми. Паллиативная помощь, помощь умирающим и их семьям в госучреждении не может быть платной.
Меня, конечно, оторопь берёт от понимания того, как устроено сознание человека, годы проработавшего в госструктуре. Это очень наплевательское отношение к делу. Я не понимаю, как с зарплатой больше 80 000 рублей можно систематически уходить в 5 часов вечера, оставляя не сделанной свою работу. Я не говорю про врачей, у них есть понимание, что в первую очередь дело должно быть сделано, и они постоянно работают сверхурочно, и им очень приятно за это говорить «спасибо» и выписывать премии.
Но когда я вижу в 5 часов вечера струйку людей, которая, как с завода, течёт к метро, и понимаю количество недоделанной работы, мне просто хочется запереть ворота. Но уволить всех разом я не могу - хороших людей на ключевые направления быстро не подобрать.
- Ключевые это кто, кроме главврача?
Все заместители, материально и финансово ответственные должности: пищеблок, прачечная, завхозы, бухгалтеры и так далее. Это должны быть люди, которые понимают и разделяют твои ценности, которым не нужно объяснять, почему мы будем у пациентов брать и стирать их одежду и не отправлять её домой родственникам. Родственники и так вымотаны, и им приятно будет увидеть, когда они снова придут, что у мамы стопочкой лежат её спортивный костюм, её ночнушка. А моя задача в том числе - сделать родственникам приятно.
Мне нужно, чтобы на пищеблоке стоял человек, который будет с пониманием относиться к тому, что Марья Петровна вдруг захотела селёдки, которой нет в меню медицинского учреждения. Диетсестра и диетврач должны составить такое меню, а заведующий пищеблоком так наладить закупки и приготовление пищи, чтобы кухня могла сделать кому-то сырник, кому-то оладушек, кому-то такую кашу, кому-то сякую. Это не просто.
Когда в структуре 11 зданий по всей Москве, из которых минимум 4 нуждаются в капитальном ремонте, а остальные - в косметическом, и всё это деньги, торги и прочий ад, задача - на любое направление найти человека, который будет в разы умнее и компетентнее тебя. Это вообще главное - не бояться нанимать тех, кто умнее.
- К вопросу о том, что милосердию легко научить, вы рассказывали , как персонал не хотел мыть ушедшую бабушку, и вы тогда сами её вымыли, причесали, переодели, и почувствовали, как люди оттаяли. А что с ними было, почему их вообще пришлось этому учить?
Это не совсем так, научить милосердию не легко, просто милосердие и эмпатия до определённой степени - профессиональные навыки.
- То есть, нужен стайлгайд о том, как быть отзывчивым медицинским работником?
Помните, как в Россию пришёл «Макдоналдс» с лозунгом «Улыбка бесплатно»? Для российской действительности человек за прилавком, улыбающийся и говорящий «Спасибо», - это было дико и странно. Но было такое внутреннее распоряжение в компании, и все улыбались. И за этим последовала масса изменений в магазинах, в ресторанах, в сфере обслуживания, и наконец волна докатилась до ЖЭКов. Я сейчас прихожу в МФЦ, мне предлагают там кофе - так я до сих пор жду подвоха.
- Я тоже.
Но нет, это такое требования работодателя. В паллиативной медицине есть стандарты, есть навыки: вот здесь надо молчать, здесь надо с улыбкой помочь, здесь надо не спешить и так далее. Это правила, которые можно прописать. Конечно, невозможно заставить человека всем сердцем сочувствовать, но люди, которые этого не умеют, сами уйдут. Люди, которые не чувствуют, что это их призвание, просто не станут работать с плохо пахнущим памперсом, с плачущим родственником, с рвотными массами, со смертью. Они ужаснутся и сбегут через несколько дней.
У нас есть девочка в этом хосписе, она из подмосковной деревеньки. Молчунья, а когда открывала рот - говорила грубовато, и я сомневалась, нужна ли она здесь, хотя работала она прекрасно. Прошло время, сейчас она - одна из лучших наших сотрудниц, потому что человека делает среда. Её просто никто никогда не учил быть приветливой и отзывчивой, и мы не имели права сразу требовать этого от неё. А сердце у неё очень большое, и интуитивно она прекрасно чувствует, когда с пациентом пошутить, когда просто посидеть молча, а когда передать пациента другой медсестре.
Нет в паллиативе ничего нового, это просто человеческое отношение, это культура отношения к старости, к слабости, к смерти, к зависимости одного человека от другого, в соответствии с христианской моралью. 80 лет советской власти, которая от этой морали отреклась, не вытравили её бесследно. Иногда приходишь в семью и поражаешься, как всё органично и правильно. В таких семьях не возникает вопроса: а хорошо ли, что человек уходит дома? А нужно ли обезболивание, может быть лучше потерпеть? Конечно, хорошо, конечно, близкий человек не должен терпеть боль.
Я вспоминаю один звонок: у женщины уходил муж в больнице, и она хотела забрать его домой, но все знакомые отговаривали: «Ты сама не справишься, детям ни к чему это видеть». Она плакала, спрашивала, как быть, я сказала: «Конечно справитесь, мы поможем». Муж прожил у неё дома всего четыре дня, все эти дни мы были на связи, она звонила и спрашивала: «У него вот так изменился характер дыхания, мне уже пора звать детей из школы?». «Да, зовите». Ей просто нужна была приходящая медсестра и человек, который подсказал бы ей, что она всё делает правильно. А её окружали совершенно нормальные, но пропитанные страхом смерти люди с разными стереотипами.
Смерть - естественная штука, она не так страшна, когда приходит естественным путём. А когда её скрываешь, стараешься не замечать и никому не показывать - вот тогда она становится страшной, как и всё, к чему мы не успели подготовиться.
- Меняется отношение к смерти в обществе?
Пока недостаточно, но оно неизбежно изменится. Демогафическая ситуация такова, что пожилых и длительно болеющих людей будет становиться всё больше и больше, и мы будем неизбежно работать на пожилых людей. Кто-то скажет: к сожалению, а я думаю - к счастью. Нет ничего более естественного и приятного, чем возвращать родителям долги. Это прекрасный замкнутый круг. Родители с нами до 16-17 лет возятся, а потом до бесконечности за нас переживают. А нам выпадает повозиться с ними несколько дней, кому-то - несколько месяцев или несколько лет, но всё равно меньше, чем они возились с нами.
Плохо, когда паллиативную помощь начинают мерять койками и открытыми хосписами. На растущее стареющее население мы можем всю страну застроить хосписами, но потребность не удовлетворим. Её можно удовлетворить только когда человек будет дома, и когда семья примет, что тут у неё растёт малыш, а тут - умирает старик. В мусульманских странах и на Кавказе не нужны такие большие вливания в стационарные хосписы, потому что там именно такой порядок. Это отношение к старости и переходу в другую жизнь быстро не вернуть. Но нужно не бояться начинать работать над этим, пусть и годами, с помощью СМИ, кино, книг.
Если не обрабатывать общество, любое, даже самое богатое государство, просто разорится на помощи старикам. Потихонечку надо к этому приходить. Для начала - открывать двери в больницы, пускать туда детей любого возраста и в любое время. Дети должны видеть бабушку беспомощной, должны видеть, как мама за ней ухаживает. Они должны знать, что больная бабушка любит их не меньше, чем когда была здоровая. А они её, больную, даже больше радуют.
К нам в Центр паллиативной помощи недавно пришёл мальчик с баяном, чтобы показать своей бабушке, как он научился играть. Это потрясающе было. И он это запомнит на всю жизнь и своим детям потом расскажет, и она до конца жизни с гордостью будет этот час вспоминать, и будет у них семейная легенда.
А какая останется легенда, если ребенку не дают даже возможности проявить любовь и заботу? Бабушка заболела, уехала в больницу, и кирдык.
- У государства тоже меняется отношение к вам, как вам удалось этого добиться?
Давайте смотреть правде в глаза: любой чиновник, если он не последняя мразь, а таких всё-таки крайне мало, хочет быть эффективным. Он хочет делать хорошее…
- Как правило, он не хочет ничего при этом решать
Отлично, мы сами всё решим. Паллиативная помощь, с учётом всех суеверий и страхов, - отличное поле, чтобы почистить карму. Вы только дайте ему эту возможность: покажите, что закон не запрещает посещение реанимации родственниками, объясните, что качественное обезболивание - дешевле и эффективнее многократных вызовов скорой, а если пускать в отделение здоровую флору вместе со здоровыми родственниками, то это будет содействовать уничтожению внутрибольничной инфекции. А если пускать волонтёров, чтобы они переворачивали больных чаще, то не будет так остро ощущаться нехватка кадров, и пролежней будет меньше. Просто и с чиновниками нужно уметь правильно общаться и правильно им объяснять, в чём выгода и плюсы.
Просвещение - основа прогресса, чтобы отношение менялось, надо постоянно говорить, обсуждать, создавать у потребителя спрос на качественную помощь в конце жизни. Для большинства людей, которые уходят в нашей стране, последние недели и дни перед смертью - это ад. Хотя картинка «правильного» умирания у нас есть. Если вы спросите человека, как бы он хотел уйти из жизни, только молодой человек без обязательств скажет: скоропостижно, машина сбила - и всё.
Нет, у большинства из нас есть семьи, незавершённые дела, важные разговоры, всем нужно у кого-то попросить прощения. Скорее всего люди скажут: «Дома в своей постели, чтобы рядом были близкие, чтобы было не больно». Мы помним из фильмов, из литературы, примеры достойного ухода. В фильме «Джейн Эйр» Джейн приезжает к умирающей тётке, которая была жуткая мразь, но эта тётка лежит в чистой постели, все дети вокруг неё, она в чепце, и она просит у Джейн прощения. В реальной жизни сегодня, увы, такие примеры - редкость. Сегодня несоответствия ожиданий и того, как происходит умирание на самом деле, вызывает ужас.
- Ну да, но чиновники обычно хотят сразу показать результат и не любят вкладывать в перспективу
Паллиативная медицина в этом смысле как раз благодарная сфера, какие-то результаты, по крайней мере геометрический рост количества благодарных граждан, ощутимы сразу. Развитие паллиативной помощи это и экономия средств, и популярное предвыборное решение с учетом демографической ситуации, и развитие благотворительности, потому что определённая часть гражданского общества начинает брать на себя социальную ответственность.
Фонд «Вера» до сих пор помогает даже московским хосписам, сколько денег фонда вы вкладываете в них и как считаете, справедливо ли это?
Смотрите. В бюджете в Москве есть деньги. В паллиативной помощи в Москве денег больше, чем достаточно, чтобы обеспечить всех, кому это необходимо.
- Всех в хосписах или в городе?
Я считаю, что в городе. Для того, чтобы медикам платить достойную зарплату, денег тоже достаточно. Достойная, как мне кажется, - это когда медсестра получает около 70 000, старшая сестра - 90 000, врач - 100 000 с лишним, завотделением - 120 000-130 000. И я думаю, что мы скоро выйдем на эти цифры. А вот с приобретением товаров и услуг дела обстоят хуже. Система закупок по ФЗ №44 - убийственная, она превращает всё в волокиту и приводит к закупке некачественного продукта. И это неизбежность.
Для меня, как человека пришедшего из некоммерческой организации (а с точки зрения управления финансами нет разницы, коммерческая организация или НКО), это пытка - видеть, что деньги есть, но ты никак не можешь получить результат, который тебя устроит. К сожалению, даже в Москве деньги благотворительного фонда нужны в малом объёме, чтобы, например, закупать какие-то расходники более высокого качества, чем то, что мы можем купить через аукцион. В фонде мы привыкли экономить каждую копейку, изворачиваться, искать, где подешевле и без потери качества купить памперсы, пелёнки и так далее. В бюджете такой возможности нет, выигрывает тот, кто даёт меньшую цену. В связи с этим я горячо поддерживаю всё, что связано с выделением государственных субсидий СОНКО.
Очень важно не бояться вносить в бюджетную сферу коммерческие элементы. В Москве в социальной сфере очень эффективно выведен на аутсорсинг большой объём работы. Младший медперсонал выведен на аутсорсинг - это твои же люди, но ты платишь компании, и можешь за счёт этого уменьшить объём работы старшей сестры по ведению табеля, чтобы она работала с пациентами, сократить людей в кадрах и бухгалтерии. В общем, много бонусов. И в медицине надо учиться. У меня гора идей. Были бы руки и время на реализацию…
Бюджетная махина в Москве паллиативного пациента обеспечивает как нигде в стране. Но федеральная программа госгарантий предполагает стоимость койки в 1800 рублей в день, и эта койка финансируется из бюджета субъекта. Большая часть субъектов - дефицитная. Это значит, что там в принципе нет денег, и у любого губернатора список из сотен задач, в котором первые строки занимают люди, которые вкладываются в ВВП - взрослые и дети, а паллиативная медицина финансируется по остаточному принципу. В Москве стоимость койко-дня более 5000, при этом городской бюджет выделяет столько денег, чтобы всех нуждающихся обеспечить помощью, а получает помощь, наверное, только треть, так как недостаточно пока развита инфраструктура. Поэтому увеличиваются расходы на каждого пациента, и это здорово.
- А ничего, что вы это говорите? Вам не срежут финансирование?
Нет, я и в департаменте об этом очень открыто говорю. И департамент сам заинтересован в качественных расчётах. Не все получают эту помощь не потому, что нет денег, а потому, что нет врачей. Все заинтересованы в том, чтобы люди оставались дома, если есть приличные условия содержания и семья. Пусть к пациенту ходит медсестра каждый день и помогает. Это и пациенту улучшает качество жизни, и для семьи стратегически правильнее, и бюджету дешевле. Главное - убрать неприятные симптомы, обеспечить уход и всегда быть на связи.
- На сколько дешевле?
Это зависит. Например, если человек на аппарате ИВЛ, то его пребывание дома с регулярными визитами медработников обходится в 7 раз дешевле, чем пребывание в стационаре. По нашим данным, в России 1 300 000 человек нуждаются в паллиативной помощи, а получают около 180 000 в год.
Можно сравнивать человека, который получает паллиативную помощь в конце жизни и человека, который её не получает, но при этом пользуется услугами медучреждений, а именно: вызывает скорую помощь, его госпитализируют, последние 2-3 дня жизни он проводит в реанимации. Первый человек бюджету обойдётся дешевле. В масштабах страны, если все, кто нуждается в паллиативной помощи, будут получать её, это будет экономия для бюджета в размере в 76 млрд рублей в год.
Но чтобы это случилось, систему надо выстроить, привести врачей. И спроса пока не достаточно, потому что у нас в стране принято пострадать. Ждать принято до последнего. Не готовиться к худшему - накликаешь же. И ещё потому, что люди в силу незнания или предрассудков всё равно позвонят в «Скорую».
- А «Скорая» не должна им сказать, что пора в хоспис?
Не должна. У каждого свои обязательства. Вы вызываете «Скорую» не чтобы умереть, а чтобы не умереть.
- Так когда человек должен узнавать про хоспис?
От лечащего врача, когда прекращается лечение. Или когда он ещё здоров. В какой момент вы понимаете, что высшее образование нужно получать? Классе в восьмом. Когда вы понимаете, что изменять супругу не очень хорошо? Задолго до того, как выходите замуж. Информацию о том, как устроена жизнь (и смерть) должна поступать задолго до того, как человек выходит в эту жизнь самостоятельной единицей. Быстро это не делается.
Вообще, одна из вещей, к которым мне сложно привыкнуть - то, как всё медленно в бюджете. Ты хочешь, чтобы система заработала как можно скорее, но количество изменений, которые можно внедрить в момент времени, очень маленькое. Полтора года назад, когда я только пришла, я очень торопилась, но сейчас я поняла, что темпы другие. На 2018 год у меня всего 3 задачи: внедрить единую для всех филиалов форму истории болезни, навести порядок в финансовой службе, начать капремонт в Центре паллиативной помощи. Всё.
- Так всё-таки, мы не закончили с вопросом про деньги фонда «Вера». На что они идут?
Есть вещи, на которые государство не должно тратить деньги. Например: мы говорим, что качество помощи возрастает в момент при открытых дверях и с появлением волонтёров. Волонтёры не берутся из ниоткуда. Их надо найти, привлечь, обучить, поддержать, удержать и приумножить. Это тяжелейшая работа, рекрутинг очень особенных кадров. Одного из двадцати человек мы в итоге в эти стены пустим, при этом 19 должны остаться нашими. Они должны узнать про паллиативную помощь, про благотворительность.
Нам нужны дополнительные руки, сиделки. Я хочу, чтобы сиделки оплачивались фондом, у нас в каждом отделении есть замечательные женщины, которые делают вещи, на которые у медработников времени просто нет. Я хочу, чтобы каждая женщина в хосписе могла рассчитывать на то, что у неё будут аккуратно вымыты и подстрижены волосы, ухожены ногти, чтобы она была одета так, как ей приятно, потому что к ней муж вообще-то придёт. Она хочет для него женщиной оставаться, а не беспомощным телом. А если пациент молодой, ему нужно, чтобы была возможность в компьютерные игры играть, сериалы смотреть, как-то иначе проводить досуг, как он привык. Вот это все без денег фонда не обеспечить.
Понимаете, матричная медицина, в которой пациент - винтик, хороша, когда мы выходим из строя на время. Мы попали в больницу, нас там по регламенту прокрутили, починили, и мы пошли дальше, вернулись к обычной жизни. А паллиативная помощь - это про последние дни, после этого не будет никакого «дальше». Поэтому слова «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» - так важны. Мы должны обеспечить человеку достойную жизнь. Мне нужны для этого сиделки, волонтёры, салон красоты, собаки-терапевты, а чтобы привлечь их, мне нужен фонд.
Что ещё обеспечивает фонд? Фонд издаёт книги, учебники, мы устраиваем конференции и привозим лекторов со всего мира, и слушателей со всей страны. И я хочу, чтобы медики, которые приезжают в Москву учиться, жили в комфортной гостинице, чтобы они могли сходить на концерт, чтобы для них был организован фуршет, чтобы они отдохнули, а не только поработали. Они заслужили. На это очень трудно собирать деньги, но Фонд «Вера» неплохо справляется.
Фонд работает почти на все субъекты страны, и у нас масса хосписов, которым мы помогаем. Ещё большая часть работы фонда - адресная помощь детям. Посылки с трахеостомическими трубками, повязками, памперсами, влажными салфетками, питанием для этих детей, лекарствами, инвалидными креслами. Стыдно, что это есть и стыдно, что это нужно. Ребёнок на ИВЛ - это 100 000 рублей в месяц на расходники. Иногда чтобы семья могла оставить больного ребенка дома зимой, в эту семью нужно купить дрова.
Было бы хорошо, если бы в каждом субъекте появлялись свои фонды. Мы сейчас работаем над национальным приоритетным проектом по доступности паллиативной помощи, пишем паспорт проекта и надеемся, что он будет утверждён правительством, и там один из показателей эффективности - появление в каждом субъекте СОНКО, работающих в сфере оказания паллиативной помощи и получающих государственные субсидии. Если паспорт одобрят, это простимулирует появление таких фондов.
- Расскажите про программу «Жизнь на всю оставшуюся жизнь», к которой вы хотите привлечь бизнес.
Мы устаканили в каждой голове за 10 лет формулу «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь». Её придумала когда-то Оля Агеева. Я очень хорошо помню, как несколько лет назад меня срубал вопрос «Зачем помогать умирающим?». Сейчас такого вопроса нет, а если он есть, то его стыдно задавать. Почти то же самое уже произошло с вопросом про боль - уже многие понимают, что боль нельзя терпеть и нужно лечить. И вот очередной этап - нужно сделать так, чтобы люди знали, чего требовать от хосписа. Хоспис - это про жизнь до конца.
Нельзя радоваться толпам благодарных родственников, которые счастливы, что их родителю постель перестелили, обед принесли и после недели мучений вкололи морфин. Это неправильно, эти родственники должны быть в ярости. А благодарны они должны быть за совсем другой объём и качество помощи.
Сейчас перед нами новый горизонт - надо объяснить людям, чего хотеть. Мы долго искали правильные слова для этого. Наконец, нашли Александра Сёмина, автора ролика фонда «Линия жизни», лучшего, на мой взгляд, ролика про благотворительность. Это тот же Сёмин, у которого родился сын Семён Сёмин с Эвелиной Блёданс, и благодаря которому совершенно изменилось отношение к детям с синдромом дауна. Он рассказывал, что на 20 с чем-то процентов упало количество отказов от таких детей после их с Эвелиной активной работы.
Среди множества вопросов о работе фонда и хосписа очень часто звучит вопрос о том, как попасть в хоспис. В вопросе каким-то странным образом сразу звучит следующее, ясно, что попасть сложно, ясно, что очередь, ясно, что придется кому-то и сколько-то дать. Скажите кому и сколько. Я всегда одинаково отвечаю, увы, попасть несложно, достаточно лишь иметь рак в четвертой стадии. Оказывается я далеко не всегда права.
В хоспис попасть несложно, если
1. Вы знаете, что хоспис существует
2. Ваш районный терапевт и районный онколог знают, что хоспис существует и какой вид помощи оказывает
3. Речь идет о Первом Московском хосписе.
Дело в том, что направление в хоспис дает районный онколог. Онколог направляет в хоспис своего округа. Хосписов в Москве 8, округов сегодня 11. То есть сотни пациентов, проживающих в Западном и Восточном округах и на вновь присоединенных территориях вообще не имеют хосписа в округе. По закону, эти пациенты имеют право выбрать любой из имеющихся в Москве хосписов и при наличии мест и по согласованию с главным врачом именно туда и поступают. Только помнят ли об этом районные онкологи и знают ли об этом своем праве пациенты?
В понедельник на большой еженедельной конференции в ПМХ обычно разбираются все случаи смерти за прошедшую неделю. И вот вчера на такой конференции врачи доложили о пациентке из Западного округа Москвы, которая скончалась в хосписе в субботу, проведя там меньше суток. Дежурный врач закончил свой доклад словами о том, что это типичный результат позднего обращения за помощью.
Причина такого позднего обращения кроется именно в том, что районный онколог и врач-терапевт из 195 поликлиники не рассказали родственникам о возможности госпитализировать свою 83-летнюю маму в хоспис, где ей, да и всей семье, помоглы бы в последние, такие трудные недели. Дочь узнала о хосписе от знакомых, сама принялась просить направление, в поликлинике не знали, какие нужны документы, процесс оформления всех бумаг занял неделю. Женщине становилось дома все хуже и когда, наконец, документы были готовы и из хосписа приехала перевозка, она была уже в коме и умерла в хосписе через несколько часов. Никакой реальной помощи мы оказать не успели. Более того, увидев условия и отношение персонала, дочка стала переживать, что не организовала госпитализацию раньше, что могла бы маме помочь, но увы... То есть мы даже ухудшили ее психологическое состояние дополнительным грузом вины.
А ведь могло быть иначе. Если бы система оказания помощи работала, если бы врачи в поликлиниках имели возможность, время, знания, силы на то, чтобы думать о своих пациентах. Если бы амбиции у врачей шли после желания помочь. Если бы хосписов было достаточно и если бы темы умирания и хосписной помощи не были бы табуированы в нашем больном обществе.
Зато когда пару недель назад в нашем хосписе умер один известный артист, в прессе появилась его фотография, уже мертвого, бледного, изможденного болезнью, и журналисты не постеснялись написать, что его друзья сумели госпитализировать его в хоспис за деньги. Врать и фотографировать мертвых можно, раскупят тираж быстрее.
А когда я два года назад попыталась договориться о том, чтобы у кабинетов всех московских онкологов появились изготовленные фондом плакаты о хосписах с их адресами и описанием помощи, которую там можно получить совершенно бесплатно, мне отказали, объяснив причину отказа так: зачем расстраивать информацией о возможной смерти от рака в хосписе тех, кто пришел к онкологу с надеждой на выздоровление. Это негуманно. Конечно, гораздо гуманнее, когда человек умирает вообще не получив помощи. Зато незаметно для других.
А когда Первый Московский хоспис решил собрать у себя всех районных онкологов на специальную встречу, чтобы еще раз поговорить о сотрудничестве и о своевременной передаче пациентов, на встречу пришли только 4 человека, из заявленных дирекцией центрального округа 32. И эти 4 и так с нами прекрасно сотрудничают, а у остальных была пятница, один из первых теплых викендов. Зачем ехать в какой- то хоспис на какую- то встречу.
Имеет ли смысл еще говорить о том, что женщина, которая не была вовремя госпитализирована в хоспис, в годы войны была малолетней узницей концлагеря, прожила долгую и трудную жизнь в не самой человеколюбивой стране, родила и вырастила дочь, и ей еще не повезло под конец заболеть раком, а еще не повезло жить в Западном округе, где врачи не знают о хосписе и где ее под конец жизни ждал еще один концлагерь - спровоцированный системой, а точнее отсутствием системы помощи онкологическим больным.
Выступление Нюты Федермессер в формате TED-Talks на TEDxSadovoeRing - 18 минут абсолютной тишины в зале и честные размышления о том, как каждому из нас подготовиться к последним дням жизни.
Чтобы был не страх, а жизнь - на всю оставшуюся жизнь.
Страшно, да? Кошмар в хосписе работать. Все умирают, процесс умирания. Все журналисты приходят и первым делом спрашивают: а вы не могли бы нам, пожалуйста, рассказать, о чем люди думают перед смертью? Все боятся.
В хосписе проходил концерт, небольшой камерный концерт, когда в холл вывозят пациентов, и кто-то из музыкантов играет для них. Это не обязательно должны быть какие-то великие музыканты, лишь бы музыка была узнаваема, лишь бы было приятно лежать и слушать. Потому что, конечно, большинство знает – скорее всего это последняя музыка и последний концерт. На одном из таких концертов была семейная пара – уходил муж, очень преданная жена стояла рядом, держала его за руку. Такая, знаете, нежная, очень ухоженная женщина, тоненькая, в розовой блузке, просвечивалось белье, из таких женщин, которые совершенно не понимаешь, как они умудряются оставаться всегда такими женственными даже в ситуации, когда в хосписе уходит твой любимый человек. Она держала его за руку весь концерт, и когда концерт закончился, они вместе поехали в палату, а я почему-то попросила ее, заходите, говорю, потом в кабинет, просто пообщаться. И, наверное, часа через полтора после этого она зашла, и я по ее виду сразу поняла, что муж у нее ушел. Не то чтобы она плакала в этот момент, или как-то подавленной вошла, нет – расслабленной. Она говорит: Саша умер. Я говорю: Как умер? Вы же только что на концерте, как же так? Вы понимаете, мы заехали в палату, я села к нему на кровать, он протянул руку и хотел поднять ее, я взяла его за руку (у нас очень слабые пациенты, для них порой поднять руку это тоже целое дело). Я взяла его за руку, чтобы помочь, и он говорит: не надо, я сам. И положил руку сюда на блузку и стал расстегивать кофту, пуговицу. А потом рука так сползла вниз – он умер. Люди думают о тех, кого любят, о любимой женщине, или думают о тех, кого любили когда-то и к кому предстоит вернуться.
Такой важный персонаж в моей жизни – баба Маня. Бабушка из деревни Никитино, куда я приезжала всю жизнь, и приезжаю сейчас каждый год летом. Она умерла в 104 года. Умерла так как в книжках пишут, знаете, у себя дома, в своей избе, со своей уже очень пожилой дочерью, за ней ухаживавшей. До конца оставалась в своем уме, и незадолго до смерти пришла – она ходила от дома к дому в деревне, садилась на завалинке, просто чтобы отдохнуть. Иногда что-то говорила – особо, уже знаете, когда ей стало сильно за 90, никто уже в общем не прислушивался, что там она несет про колхоз, совхоз, войну, революцию. И вдруг я что-то затормаживаю у нее, потому что вот какое-то интересное что-то она говорит. Это Ярославская область, там говор такой специфический. И она говорит: «Нюта, милай мой, вот Алеша мой помер – мне 21 год был, я беременная осталась. Он на войну ушел и помер, я молодая была, у меня коса». А она сидит, знаете, валенки такие здоровущие, из них ноги тонкие торчат, такое платье потрепанное, ну какое-то… не знаю, стандартное, деревенское, колхозное. Платок, волосы тонкие, как паутина, белые выбиваются. «Коса была, и Алеша мой. У меня мужчин больше не было. Нюта, ты как думаешь, я к нему попаду молодухой, или с такой жопой обвисшей?» Так что думают люди о своих близких, думают о том, чтобы их помнили.
Совсем недавно в Москве, в Центр паллиативной помощи перевели молодого мальчишку шестнадцатилетнего из Центра Димы Рогачева, потому что случается, что нельзя вылечить, но можно помочь. Он довольно быстро понял, что условия не как в больнице, все можно, все понимают, что впереди, хотя откровенных разговоров с ним не было. Когда я ему сказала: «Дим, че хочешь?» Он говорит: «Ну че хочу, покурить и пива». Ну, покурить, пиво, это в общем мы легко организовали – но дальше все, конечно, не так весело. Мама рядом в палате, мама плачет. С кем-то из врачей сложились более доверительные отношения, и накануне выходных он сказал, что ему очень нужно сделать одно дело важное. Ну какое дело важное – надо купить цепочку и кулончик-сердечко. И вот, несколько человек из Центра паллиативной помощи, медики, они бегали по Москве в выходные дни – и принесли ему на выбор в понедельник много разных кулончиков: сердечко, знаете, такое, со стрелой, сердечко одинарное, сердечко двойное, сердечко расколотое. Он выбрал сердечко. Когда он «ушел», мама забрала это сердечко – и она отдаст его девочке, про которую он думал. А я думаю, что эта девочка, – которая, наверно, живя в такой глубокой глубинке, в бедности, в простоте, в таком городе, где среднестатистический мужик становится алкоголиком и умирает лет в 30-32, выйдет замуж, станет он у нее алкоголиком, умрет, она будет в таких лосинах леопердовых, в калошах, семечки лузгать, – у нее всю жизнь будет этот кулончик. Она всю жизнь будет вспоминать фантастическую романтическую историю, которой ни у одной бабы больше нету там. Она будет помнить этого Диму. А у нас все сотрудники будут помнить Диму, потому что если врач облегчает состояние больного, покупая кулончик с сердечком, то это какая-то невероятная медицинская помощь – паллиативная медицинская помощь называется, хосписная. Для того, чтобы у человека была возможность положить руку на грудь любимой женщины, купить кулон, для этого тоже нужны какие-то условия. Чтобы он был самим собой, ему должно быть не больно, не страшно, не одиноко.
Раньше все это было естественно, раньше люди готовились к уходу из жизни. Сейчас редко в каких семьях про это говорят, но иногда говорят. Мне повезло, у меня с обоими родителями было все проговорено, и мои оба родителя сумели остаться самими собой до конца. Мама, которая основала хоспис. Ее, вообще, главная черта – она всегда заботилась о ком-то, она всегда про себя говорила: я нянечка. И вот она уходя, я стандартно, мы уже обе работали в хосписе, я вполне стандартные для себя задавала вопросы: Мама, ты пить хочешь? – Не хочу пить. Это вот ее последние минуты жизни. Все было очевидно очень, она быстро умерла. Я говорю: А что, тебе холодно? – Не холодно. Больно? – Не больно. Я говорю: Ну а что? Ну должны же быть какие-то стандартные вещи, о чем люди думают перед смертью. Воды, кто подаст стакан воды – она пить не хочет. И она говорит: Валокордин папе накапай. Это фантастическое, вот, человек может остаться самим собой тогда, когда все уже сказано, тогда, когда все распоряжения уже даны. Я пошла на кухню, открыла дверь холодильника (у нас у многих наверное именно в холодильнике стоит валокордин). И мама, услышав вот этот специфический звон бутылочный от холодильника дверцы, последние слова, которые я от нее слышу – не там, у раковины.
Через несколько лет после этого умирал папа, папа человек очень скромный, с прекрасным чувством юмора, и очень любивший музыку. Я всю жизнь росла в этой музыке, в том числе в Шнитке, которого я ненавижу с тех пор. Я читала его завещание, в завещании была написана последняя фраза, написана мной в состоянии трезвого ума, и трезвой памяти под звуки классической музыки. И вот он умирал 4 дня, умирал в больнице, в конце он уже был практически без сознания, мы были все рядом, и очень моя любимая племянница, его внучка, желая, чтобы ему было хорошо, говорила: дедуль, музыку будем слушать? Он закрывал глаза – будем. А что? Сказать он уже не может. Она говорит: давай по алфавиту. Ч – Чайковский. Нет. П – Прокофьев, Р – Рахманинов, Ш – Шнитке. С соседней койки мужик за ширмой, а папа ничего сказать не может, мужик говорит на Ш – Шуфутинский. Тут папа мой открывает глаза, и из последних сил говорит: не Шуфутинский. И я вот понимаю, что Лизка, племянница, которая осталась, ее воспоминания о смерти деда будет вот таким светлым, как у вас сейчас, со смехом. Не Шуфутинский, не надо, лучше Шнитке.
Как правильно? Бывает правильно? О чем правильно думать? Правильно точно совершенно не бывает, но очень хорошо, когда те, кто уходят, подумали о тех, кто остается. Это же мы с вами остаемся с чувством вины, это мы с вами остаемся, и самое страшное – ссора, самое страшное, которая может произойти, ссора, которая происходит на похоронах или на кладбище. Ссора, которая происходит из-за того, что люди не сказали, как надо, что кому, что делать, кого звать, кого не звать.
Бабушка моя, из того поколения человек, 11 года рождения, всю жизнь, между Вильнюсом и Москвой она ездила с чемоданчиком и говорила – это чемоданчик с моим похоронным. Этот чемоданчик стоял у нас за шкафом в комнате. Когда она была в Москве, самое большое мое желание в детстве было – дождаться, когда бабушка уснет, так, чтобы я еще не спала, и залезть в этот чемоданчик, потому что.. что там? Сокровища Флинта. Наконец я открыла этот чемоданчик тайком, там была одежда, которую на нее надо надеть. Бабушка очень скромно одевалась, а там лежал потрясающий сарафан клетчатый, черно-белый, очень красивый. И мне так странно было, почему же она носит какую-то ерунду, а этот сарафан – нет. Еще почему-то этот сарафан был разрезан сзади, прямо ножницами разрезан полностью. Я когда в хосписе уже стала работать – вот эта степень заботы о своих близких… она очень тяжелую жизнь прожила, и она понимала, что одеть умершего довольно трудно – и разрезала свое лучшее платье для своих детей.
Конечно, для того, чтобы было правильно, для этого нужно время.
Для этого мы с вами не должны бояться задавать вопросы, не должны бояться давать ответы. Потому что если вас спрашивает кто-то, или кто-то вам говорит: слушай, там, будешь меня хоронить, или если я умру, то там. Ответ: да что ты, ты еще меня переживешь, простудишься на моих похоронах. Прекрасно, конечно, но все остались недовольны. Этот не сказал, чего хотел, вы не узнали, что нужно. Потом поссоритесь на похоронах, будете жалеть. И вот эта вот честная проговоренность, эта вот подготовка, то что вам дает возможность потом не испытывать чувство вины, на самом деле это же дает вам возможность оставаться самими собой, и это же дает вам возможность вдруг неожиданно честно говорить о своих желаниях. Здесь важно слово «честно». Вы только тогда можете правильно расставить приоритеты и определить, что важно, когда вы знаете дедлайн. Это ведь со всем так: если вы знаете, когда уезжаете, вы успеете сделать ровно то, что нужно, и не сделаете ерунду. Если вы знаете, когда экзамен, вы успеете хоть как-то подготовиться, а если не знаете, что будет жутко страшно, потому что вообще не понимаешь, чего сдавать. Если вы знаете свой диагноз, и если вы знаете, что у вас осталось 3 месяца, или 3 года, то скорее всего вы очень правильно расставите приоритеты. А в хосписе, там где медицина, наконец, соединяется с человеком, присоединяется к человеку. Там, где все сделано так, чтобы было не больно, не страшно, не одиноко, в хосписе открывается неожиданная возможность в этой сумасшедшей жизни быть честным с собой, со своими близкими, честно сказать, чего тебе хочется.
Чего люди хотят перед смертью – хотят селедки, хотят покурить, недавно парень один с рассеянным склерозом, он женщину захотел. Ну на самом деле нет ничего невозможного для руководителя учреждения, если пациент хочет. Ему можно и женщину обеспечить. Прекрасная женщина, ни раз еще к нам придет, я уверена. Скромные желания, и желания с другой стороны, бывают такие совершенно ну такие трогательные, замотанные в ненужных мелочах. Потому что желание, которое было написано на бумажке и опущено в ящик о одном из московских хосписов совсем недавно – прикоснуться к Цискаридзе. Ну че вы смеетесь, вы представляете, женщине молодой, умирающей, понимающей, ЧТО у нее, что она уже не хорошо выглядит, что она желтая, бледная, что у нее тут трубка, тут трубка, тут течет, тут плохо пахнет – она хочет прикоснуться к Цискаридзе. А через 2 дня он к ней приходит вот с таким букетом роз. Сидит у нее у кровати, они беседуют – она, на самом деле, довольно стабильная, ну недели две, на наш взгляд, у нее должно еще было быть впереди. Естественно, ее все фотографируют, естественно, она прихорашивается перед его приходом. Естественно она искупалась, а это трудно тяжело болеющему человеку – искупаться, это дело. Он ушел, а вечером она умерла. Неожиданно для всех, потому что человек сам чувствует, когда он прожил то, что он хотел прожить.
Очень долго в Первом московском хосписе жила женщина – и было совершенно не понятно, ну что это за фантастическое мучение, почему, КАК в ней держится жизнь, почему она не уходит. У нее сын жил в Грузии, какие-то проблемы с документами не позволяли ему приехать. Мы писали консулу туда, консулу сюда, привлекали каких-то там правозащитников, ну нет, и все. Документы не в порядке – нельзя. Наверное через несколько месяцев писем от волонтеров, сотрудников… ну у меня нет больше сил терпеть это – как вот пытка. Единственное, что она хочет– это повидать сына. И я обратилась к Софико Шеварнадзе. Та в свою очередь – в Министерство иностранных дел. Через несколько дней все-таки сделали визу, и к ней приехал сын. И все в хосписе думали, что наверное вот, наверное это ее последний день, она дождалась. Через день я пришла в расчете на то, что она ухудшилась, а мне говорят – хотите в палату зайти? Я захожу, она сидит с сыном, ест сулугуни и пьет вино. Ну, она дождалась. Он уехал в Грузию, и она ушла после этого. И это тоже показательно, что она ушла одна. Потому что когда мы очень любим своих близких, мы их держим, мы их не отпускаем, и они это контролируют как-то.
Очень многие думают, что надо дожить до Нового Года, и пик смертей приходится на вот этот период рождественский и новогодний. Очень многие хотят дождаться, когда внучка родит правнука, когда будет 50-летие со дня свадьбы. Мы контролировать можем значительно больше, чем кажется. И если все проговорено и честно, если все готовы, если все знают правду, то тогда оказывается, что мы можем контролировать свои простые желания, мы можем вдруг осмелеть. Осмелеть, ну это тоже смешно. Цискардзе, это же смелое желание, если бы она была здорова, ей бы в голову не пришло такое сказать, понимаете. Если не больно, не страшно, не одиноко, все то, что культурологически было с нами, было в этой стране, было в этой культуре. Если это получилось сделать, то тогда оказывается, что есть время – фантастическое, драгоценное время. Его, порой, не надо много, на это хватает минут, кому-то на это нужны дни. Но это не много времени, в которое нужно сказать 5 главных вещей друг другу: ты мне очень дорог, я тебя люблю, прости меня, я тебя прощаю, и я с тобой прощаюсь . Вот эти желания, и возможность их осуществить – это те самые 5 вещей. Они проговариваются вот так – налей папе валокордин, купите ей кулон, протянутой рукой к пуговице на груди любимой жены. Это те самые 5 вещей.
Если все понятно, и можно быть искренним, то можно, оказывается осмелеть в нашей дурацкой нелепой жизни, где мы переполнены условностями. До того, чтобы слепая, молодая уходящая женщина говорит: знаете, я всю жизнь мечтала и никогда не могла осмелиться – я хочу такой маникюр, чтобы каждый ноготь яркий и разноцветный. Можно? Она слепая. Ей сделали этот маникюр, она лежала, положив руки на одеяло, и каждого входящего в палату родственника или медсестру она просила назвать, какого цвета каждый ноготь, чтобы убедиться с каждым новым человеком, что у нее действительно каждый ноготь разного цвета.
Время, и открытость, и помощь убирают боль – то, чего мы больше всего боимся перед смертью. Боль, которая лишает нас возможности оставаться личностью, человеком. Убивает возможность думать, и не дает возможность долюбить близкого, доотдавать. Если мы это все убрали – то, пожалуйста, мы можем быть сами собой и мы можем захотеть чего угодно. Мы совершенно точно не думаем перед смертью о смерти, мы думаем о жизни. Хоспис – это возможность от ужасной жизни уйти. И если знать правду тогда, когда мы с вами здоровы, если подготовиться и перестать бояться того, что очевидно и наверняка произойдет с каждым, – гораздо очевиднее, чем рождение детей, замужество, институт, развод, не знаю, все что угодно. Тогда уже можно сейчас подумать, о чем вы хотите думать перед смертью. Тогда получится. Спасибо.
TEDxSadovoeRing проводит крупнейшие конференции в Москве по лицензии TED - глобальной площадки для обмена идеями и опытом в живом формате. ⠀