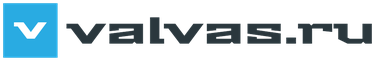Герхарт Гауптман
Атлантида
ПРОЗАИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ДРАМАТУРГА
Герхарт Гауптман (1862–1946), самый знаменитый немецкий драматург своей эпохи, родился за несколько лет до объединения Германии Бисмарком, а умер после разгрома фашизма. Когда писатель живет долго, его творчество - при всей внутренней изменчивости - становится неотъемлемой частью культуры нации на протяжении долгих десятилетий. По книгам Гауптмана можно читать историю Германии и - шире - Европы, в них отражены катаклизмы, перемены, социальные сдвиги, интеллектуальные и художественные новации. Гауптман не без основания считал себя наследником европейского гуманизма. В его многочисленных драмах (их почти полсотни), в его гораздо менее известных романах и рассказах перед нами проходят картины исторического прошлого, религиозных борений, революционных выступлений, надежд и поражения доведенных до отчаяния, погибающих от голода силезских ткачей, батрачек, людей берлинского дна, трагедии и исступленные искания художников, высокоодаренных и несчастных ревнителей правды и справедливости.
Не сразу Гауптман угадал свое призвание. Он некоторое время учился в художественной школе, занимался лепкой и рисованием, пережил краткое увлечение естественными науками, много путешествовал. Уже в эти годы в нем пробуждается горячее сочувствие к бедным и обездоленным, презрение к немецкому мещанству и прусской юнкерско-чиновной Германии. Однако демократические идеалы Гауптмана и в конце прошлого века, и в последующие десятилетия не отличались ни четкостью, ни радикальностью. От подлинной революционности Гауптман был далек, хотя революционные выступления немецкого пролетариата, борьба социал-демократов против так называемого «исключительного закона против социалистов» в восьмидесятые годы не могли не повлиять на раннее творчество Гауптмана, о чем прежде всего свидетельствует его пьеса «Ткачи».
«Он победил сразу. В маленьком старом театре, где впервые шла его пьеса, спорили, негодовали, торжествовали, но равнодушных не было, и никто, будь то противник или друг, не считал успех преходящим… Шел тысяча восемьсот девяностый год…» - так рассказывает Генрих Манн о премьере пьесы «Перед восходом солнца», которая принесла Гауптману первую победу в театре и с названием которой перекликается название его поздней драмы - «Перед заходом солнца». Эти драмы составляют своеобразную рамку творческого пути Гауптмана до прихода фашистов к власти в Германии. Премьера пьесы «Перед восходом солнца» для истории немецкого театра представляет знаменательное событие. Она не только сделала известным имя молодого писателя, но и заставила заговорить о творческих победах писателей-натуралистов, среди которых он был, бесспорно, самым талантливым.
Лучшей из ранних пьес Гауптмана - смелой и новаторской - была его драма «Ткачи» (1892). Более прогрессивного, пылкого и страстного произведения немецкий театр второй половины прошлого века не знал. В этой драме демократические симпатии Гауптмана достигают своего апогея; можно даже сказать, что ни до этой драмы, ни после нее Гауптман никогда так ясно и резко, с такой художественной силой не выражал революционных устремлений немецкого народа. Это была действительно «драма переворота», хотя сам Гауптман не стремился к революционным методам преобразования общества. Страдания ткачей были изображены Гауптманом с достовернейшей, документальной точностью, с подлинной страстностью, а мир фабрикантов - со злой иронией и настоящей, неподдельной ненавистью. Именно поэтому «Ткачи» стали любимой пьесой немецких революционеров и были очень популярны в русских рабочих кружках конца XIX века.
Во второй половине девяностых годов Гауптман, как и многие другие натуралисты, сближается с новым литературным течением - символизмом. В такой его пьесе, как «Вознесение Ганнеле» (1893–1895), мы находим своеобразное переплетение натуралистических и символических сцен - здесь Гауптман стоит как бы на полдороге. Впрочем, став модным символистским драматургом, Гауптман не создает ни одной драмы, в которой символизм был бы представлен в чистом виде. Из символистских пьес Гауптмана наибольшим успехом пользовался «Потонувший колокол» (1896). По своей теме «Потонувший колокол» перекликается с последней пьесой Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». В обеих пьесах драматурги поднимают вопрос о месте искусства в жизни общества, о судьбе и назначении художника. Гауптман рисует «сверхчеловеческие» усилия колокольных дел мастера Генриха, пытающегося найти в творчестве неограниченную, ницшеански понимаемую свободу личности. В пьесе царит мир сказочных легенд и образов, которым противопоставляется будничный и серый мир «долин». Этот серый мир филистерства возникает под пером Гауптмана - но уже в реалистическом изображении - и в семейно-бытовых пьесах, которые соседствуют с символистскими драмами и составляют как бы вторую струю в творчестве драматурга, идущую от «Одиноких», «Бобровой шубы», «Коллеги Крамптмона», написанных в первый, натуралистический, период его творчества. В «Возчике Геншеле» (1898), в «Розе Бернд» (1903) Гауптман пытается в рамках семейной драмы показать уродливые общественные условия, страшный мир мещанства, мир «крыс» («Крысы» - так называлась пьеса 1910–1911 гг.).
Гауптман оставался властителем дум, самым популярным драматургом в Германии до начала первой мировой войны. В годы войны Гауптман занял шовинистические позиции. Ни Горькому, ни Роллану не удалось убедить Гауптмана в ошибочности его взглядов, которые привели немецкого писателя в годы Веймарской республики к политическому консерватизму, а в годы фашистской диктатуры - к глубокому творческому кризису. С каждым десятилетием влияние Гауптмана падало, хотя писать он продолжал много - и в разных жанрах.
Живой интерес к его творчеству в широких читательских кругах вновь проявился в последние годы Веймарской республики, когда Гауптман выступил со своей драмой «Перед заходом солнца» (1931). Старый писатель наполнил свою закатную драму горькими размышлениями о судьбе Германии, о трагическом пути гуманиста и правдолюбца. В основу сюжета пьесы Гауптман положил историю любви и страданий своего друга - издателя Макса Пинкуса. Но трагедия Пинкуса соединилась в творческом воображении драматурга с судьбой немецкого гуманизма в мрачные предфашистские годы; размышления о немецкой культуре вызвали многочисленные ссылки на Гете - не только явные, «цитатные», но и внутренние, так как Гете всегда был для Герхарта Гауптмана символом этой культуры.
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц)
Герхарт Гауптман
Атлантида
роман
ПРОЗАИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ДРАМАТУРГА
Герхарт Гауптман (1862–1946), самый знаменитый немецкий драматург своей эпохи, родился за несколько лет до объединения Германии Бисмарком, а умер после разгрома фашизма. Когда писатель живет долго, его творчество – при всей внутренней изменчивости – становится неотъемлемой частью культуры нации на протяжении долгих десятилетий. По книгам Гауптмана можно читать историю Германии и – шире – Европы, в них отражены катаклизмы, перемены, социальные сдвиги, интеллектуальные и художественные новации. Гауптман не без основания считал себя наследником европейского гуманизма. В его многочисленных драмах (их почти полсотни), в его гораздо менее известных романах и рассказах перед нами проходят картины исторического прошлого, религиозных борений, революционных выступлений, надежд и поражения доведенных до отчаяния, погибающих от голода силезских ткачей, батрачек, людей берлинского дна, трагедии и исступленные искания художников, высокоодаренных и несчастных ревнителей правды и справедливости.
Не сразу Гауптман угадал свое призвание. Он некоторое время учился в художественной школе, занимался лепкой и рисованием, пережил краткое увлечение естественными науками, много путешествовал. Уже в эти годы в нем пробуждается горячее сочувствие к бедным и обездоленным, презрение к немецкому мещанству и прусской юнкерско-чиновной Германии. Однако демократические идеалы Гауптмана и в конце прошлого века, и в последующие десятилетия не отличались ни четкостью, ни радикальностью. От подлинной революционности Гауптман был далек, хотя революционные выступления немецкого пролетариата, борьба социал-демократов против так называемого «исключительного закона против социалистов» в восьмидесятые годы не могли не повлиять на раннее творчество Гауптмана, о чем прежде всего свидетельствует его пьеса «Ткачи».
«Он победил сразу. В маленьком старом театре, где впервые шла его пьеса, спорили, негодовали, торжествовали, но равнодушных не было, и никто, будь то противник или друг, не считал успех преходящим… Шел тысяча восемьсот девяностый год…» – так рассказывает Генрих Манн о премьере пьесы «Перед восходом солнца», которая принесла Гауптману первую победу в театре и с названием которой перекликается название его поздней драмы – «Перед заходом солнца». Эти драмы составляют своеобразную рамку творческого пути Гауптмана до прихода фашистов к власти в Германии. Премьера пьесы «Перед восходом солнца» для истории немецкого театра представляет знаменательное событие. Она не только сделала известным имя молодого писателя, но и заставила заговорить о творческих победах писателей-натуралистов, среди которых он был, бесспорно, самым талантливым.
Лучшей из ранних пьес Гауптмана – смелой и новаторской – была его драма «Ткачи» (1892). Более прогрессивного, пылкого и страстного произведения немецкий театр второй половины прошлого века не знал. В этой драме демократические симпатии Гауптмана достигают своего апогея; можно даже сказать, что ни до этой драмы, ни после нее Гауптман никогда так ясно и резко, с такой художественной силой не выражал революционных устремлений немецкого народа. Это была действительно «драма переворота», хотя сам Гауптман не стремился к революционным методам преобразования общества. Страдания ткачей были изображены Гауптманом с достовернейшей, документальной точностью, с подлинной страстностью, а мир фабрикантов – со злой иронией и настоящей, неподдельной ненавистью. Именно поэтому «Ткачи» стали любимой пьесой немецких революционеров и были очень популярны в русских рабочих кружках конца XIX века.
Во второй половине девяностых годов Гауптман, как и многие другие натуралисты, сближается с новым литературным течением – символизмом. В такой его пьесе, как «Вознесение Ганнеле» (1893–1895), мы находим своеобразное переплетение натуралистических и символических сцен – здесь Гауптман стоит как бы на полдороге. Впрочем, став модным символистским драматургом, Гауптман не создает ни одной драмы, в которой символизм был бы представлен в чистом виде. Из символистских пьес Гауптмана наибольшим успехом пользовался «Потонувший колокол» (1896). По своей теме «Потонувший колокол» перекликается с последней пьесой Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». В обеих пьесах драматурги поднимают вопрос о месте искусства в жизни общества, о судьбе и назначении художника. Гауптман рисует «сверхчеловеческие» усилия колокольных дел мастера Генриха, пытающегося найти в творчестве неограниченную, ницшеански понимаемую свободу личности. В пьесе царит мир сказочных легенд и образов, которым противопоставляется будничный и серый мир «долин». Этот серый мир филистерства возникает под пером Гауптмана – но уже в реалистическом изображении – и в семейно-бытовых пьесах, которые соседствуют с символистскими драмами и составляют как бы вторую струю в творчестве драматурга, идущую от «Одиноких», «Бобровой шубы», «Коллеги Крамптмона», написанных в первый, натуралистический, период его творчества. В «Возчике Геншеле» (1898), в «Розе Бернд» (1903) Гауптман пытается в рамках семейной драмы показать уродливые общественные условия, страшный мир мещанства, мир «крыс» («Крысы» – так называлась пьеса 1910–1911 гг.).
Гауптман оставался властителем дум, самым популярным драматургом в Германии до начала первой мировой войны. В годы войны Гауптман занял шовинистические позиции. Ни Горькому, ни Роллану не удалось убедить Гауптмана в ошибочности его взглядов, которые привели немецкого писателя в годы Веймарской республики к политическому консерватизму, а в годы фашистской диктатуры – к глубокому творческому кризису. С каждым десятилетием влияние Гауптмана падало, хотя писать он продолжал много – и в разных жанрах.
Живой интерес к его творчеству в широких читательских кругах вновь проявился в последние годы Веймарской республики, когда Гауптман выступил со своей драмой «Перед заходом солнца» (1931). Старый писатель наполнил свою закатную драму горькими размышлениями о судьбе Германии, о трагическом пути гуманиста и правдолюбца. В основу сюжета пьесы Гауптман положил историю любви и страданий своего друга – издателя Макса Пинкуса. Но трагедия Пинкуса соединилась в творческом воображении драматурга с судьбой немецкого гуманизма в мрачные предфашистские годы; размышления о немецкой культуре вызвали многочисленные ссылки на Гете – не только явные, «цитатные», но и внутренние, так как Гете всегда был для Герхарта Гауптмана символом этой культуры.
По всем внешним признакам «Перед заходом солнца» – семейная драма, форму которой уже не раз использовал Гауптман («Праздник примирения», «Одинокие», «Михаэль Крамер»). В драмах этого типа конфликт у Гауптмана строится на столкновении одаренного человека с косностью, узостью мещанского окружения. До пьесы «Перед заходом солнца» конфликты оставались только семейными; за ними не стояло сколько-нибудь значительных социальных явлений и выводов. Пьесы Гауптмана рисовали разложение буржуазной семьи, но обе враждующие стороны оставались в рамках буржуазного общества, и часто оппозиционность его центральных героев оказывалась мнимой и непоследовательной. Иное мы видим в трагедии Маттиаса Клаузена, главного героя пьесы «Перед заходом солнца». Здесь семейный конфликт поднят до социальной трагедии и во внутрисемейных столкновениях нашли отражение реальные общественные противоречия социальной действительности Германии накануне фашистского переворота.
В драме очень много традиционных литературных мотивов, иногда сознательно подчеркнутых Гауптманом: главный герой напоминает короля Лира – и ссорой с детьми, и блужданием в бурную предсмертную ночь; любовь Клаузена к Инкен заставляет вспомнить последнюю любовь старого Гете к Ульрике фон Леветцов и одновременно его юношескую страсть, давшую материал для романа «Страдания юного Вертера»; чистота, доброта и внутренняя стойкость Инкен вызывают в памяти и Солвейг Ибсена, и героинь ранних символистских драм самого Гауптмана. Гете – «домашний святой» в семье Клаузенов; его непрестанно вспоминают и цитируют, дети получили имена, так или иначе связанные с Гете (Эгмонт, Вольфганг, Оттилия, Беттина). Все эти литературные ассоциации, дополненные в ремарках описанием изысканной обстановки дома – с портретом кисти Каульбаха, статуэткой Марка Аврелия, драгоценными шахматами и множеством книг, – должны создать у зрителя четкое представление об интеллектуальности хозяина дома, о широте его интересов, о глубоких связях с немецкой и мировой культурой. Маттиас Клаузен – издатель и ученый; его имя олицетворяет для всех окружающих славное прошлое немецкой культуры. Это человек большого ума и больших чувств, не утративший и в семьдесят лет здорового, ясного отношения к жизни, проницательности и духовного величия.
Неверно видеть в богатстве Клаузена главную причину его трагического одиночества; борьба за наследство, раздоры из-за богатства только выявили те конфликты и те противоречия, которые и до этого существовали в семье, но тщательно маскировались и скрывались под личиной семейного благополучия и сплоченности.
Очень тонко Гауптман показывает, что еще до начала борьбы за деньги Клаузен ощущает угрозу, исходящую от циничного дельца Кламрота и тех, кто стоит за ним. В признаниях, которые Маттиас делает своему старому другу Гейгеру, слышится его неудовлетворенность, его пока еще смутное ощущение надвигающихся перемен, беспокойство за судьбы немецкой культуры, которой он пытался служить всю жизнь. Гауптман, которого как раз в тот год, когда была поставлена в Берлине его пьеса, Генрих Манн назвал «президентом сердца», сердцем чувствовал приближающуюся катастрофу. Вопрос о том, что будет с немецким народом после этой катастрофы, когда начнется рассвет, Гауптман не ставил. Его герой Клаузен не знает, от имени кого он борется. Он борется только за себя как представителя прогрессивной и гуманной немецкой культуры. Но в этой борьбе читатель видит отражение борьбы эпохи. Именно потому, что Гауптман не представлял себе продолжения борьбы Клаузена, он заставил его «жаждать заката» (предсмертные слова Маттиаса).
«Перед заходом солнца» – драма одного героя, монодрама.
Характеристики второстепенных персонажей в пьесе предельно сжаты, но эта лаконичность сочетается с большой, хотя и нарочито односторонней четкостью в рисунке ролей. Так, главный противник Клаузена – его зять и директор его фирмы, Эрих Кламрот, изображен почти памфлетно, резкими, грубыми штрихами. Это бизнесмен с головы до ног, уверенный в том, что самое важное в мире – деньги, готовый ради денег на любое преступление, презирающий людей мысли и культуры как людей «несовременных». Любимая фраза Кламрота «Вам не повернуть назад стрелку часов» означает, что дельцы его типа ненавидят гуманизм, культуру, моральные ценности. В Кламроте чувствуется наследник «верноподданного» из романа Генриха Манна и будущий нацист – та же узость взглядов, тот же цинизм, та же аморальность, то же внутреннее убожество.
Необходимо отметить, однако, что Гауптман как своего главного героя, так и его противников оценивает в основном с моральной, а не с общественной точки зрения. Поэтому высокой одухотворенности Клаузена, широкой его эрудиции, его благородным манерам противопоставляется грубый, неотесанный, гнусный, невежественный и угловатый Кламрот. Мы мало узнаем о его политических взглядах, но зато мы знаем, что он не умеет держать себя за столом, что он говорит рублеными фразами, что он обманывает и тиранит свою жену. В этом предпочтении моральных характеристик сказалась известная односторонность Гауптмана, не решавшегося додумывать до конца поставленные им самим проблемы.
Эгоизму и корыстолюбию, ханжеству и подлости противников Клаузена противопоставлены в пьесе великодушие и бескорыстие, доброта и честность его друзей и союзников. В этой драме еще раз с особой силой нашли выражение демократические симпатии Гауптмана, которые когда-то помогли написать ему «Ткачей». Не случайно союзниками Маттиаса Клаузена оказываются не те зажиточные горожане, которые так велеречиво чествовали его в день юбилея, а простой садовник и воспитательница детского сада.
Пьесы Гауптмана – в том числе и «Перед заходом солнца» – очень сценичны. Недаром в конце прошлого века и в первые десятилетия XX столетия они буквально завоевали сцены не только немецких, но и европейских театров. Гауптмана хорошо знали в России, а после того, как Гауптман познакомился с постановкой своих пьес Станиславским во время гастролей Московского Художественного театра в Берлине (1906), он не только нашел, что русские актеры великолепно играют и ставят его произведения, но еще, по примеру Станиславского, сам стал выступать постановщиком, и его знание театра и связь с театром углубилась и окрепла. Богатое воображение Гауптмана, смелое нарушение им различных литературных канонов – и натуралистических, и символистских, – тонкая наблюдательность, склонность к разработке острых, парадоксальных ситуаций, многообразие жанровых структур – все это обеспечивало успех красочным, неожиданным пьесам Гауптмана. В немецком театре до появления Брехта Гауптман оставался признанным лидером, не знавшим настоящих соперников. Однако многосторонняя одаренность писателя толкала его к работе иного рода (отсюда, например, его постоянный интерес к скульптуре), к созданию прозаических произведений.
Хотя имя Гауптмана прежде всего связывается с его театральными успехами, его самыми первыми опубликованными произведениями были новеллы «Масленица» и «Стрелочник Тиль» (1887) и самыми последними – тоже новеллы «Сказка» (1941) и «Миньона» (1944, опубл. 1947 г.).
В течение всей его жизни очень субъективный, личностно-окрашенный талант Гауптмана нуждался в прямом повествовательном выражении, хотя в драмах его, при всем заложенном в самой природе этого жанра стремлении к объективации авторских чувств и представлений в сценических формах, всегда властвовала стихия самовыражения и лиризма. Гауптман был бы отнесен Шиллером, в соответствии с его классификацией, не к «сентиментальным», а к «наивным» художникам, и не случайно сама внешняя импозантность, эмоциональная насыщенность, резкая и красочная индивидуальность Гауптмана соблазнили Томаса Манна на не совсем почтительное деяние, и он изобразил своего старшего собрата в известном романе «Волшебная гора» в образе могучего и трагического жизнелюбца мингера Пфефферкорна.
В отличие от своих знаменитых младших современников – Томаса Манна и Германа Гессе – Гауптман в своем прозаическом творчестве представлен только романами, новеллами, этюдами, у него нет теоретико-философских работ и политических штудий. Пронизывающая все его творчество неприкрытая автобиографичность проявлялась в драмах и еще более отчетливо – в прозе, а не в аналитических статьях о собственном творчестве.
Биографы Гауптмана давно уже перечислили все фактические совпадения и соответствия в жизни описанных им персонажей и самого Гауптмана, но гораздо важнее не фактографическое основание его художественных произведений, даже самых фантастических и условных, а постоянная повторяемость, лейтмотивная закольцованность, многовариантность одних и тех же типов, проблем, коллизий, выводящих в конечном счете к биографии своего создателя, который пребывал как бы в своеобразном заколдованном круге, не умея или не желая его разорвать. Помимо преобразованного собственного жизненного материала, который легко обнаруживается в его романах и новеллах (например, в «Атлантиде», в «Вихре призвания»), среди поздних произведений Гауптмана особое место занимают дневники, воспоминания и варианты «Поэзии и правды», в которой пером старого Гете воссоздавалась эпоха его юности.
Романы Гауптмана при всем их внутреннем единстве тематически очень разнообразны. Он работал часто над несколькими произведениями одновременно, еще чаще сразу начинал нечто новое, едва поставив точку на последней странице предыдущего романа, драмы или новеллы. Необычайной была творческая продуктивность Гауптмана, не ослабевавшая с годами. Как его кумир и постоянный объект для подражания Гете, он и в последние месяцы своей жизни радовался новым своим свершениям – например, тому, что успел закончить свою включенную в круг мотивов, идущих от Гете, новеллу «Миньона».
Самым известным романом Гауптмана считается «Атлантида». Печатавшийся выпусками с продолжением в течение 1911–1912 годов, роман неожиданно получил особую популярность и признание, никоим образом не связанные ни с его несомненными художественными достоинствами, ни с именем знаменитого автора. В апреле 1912 года погиб в океане, столкнувшись с айсбергом, «Титаник», самый большой, самый роскошный лайнер довоенной эпохи. Это кораблекрушение, во время которого из двух тысяч человек – пассажиров и экипажа – спаслось не более трети, потрясло мировую общественность и стало своеобразным символом, пророческой метой на пороге первой мировой войны.
Гауптман пережил океанское плавание на корабле «Эльга», когда вслед за женой, уехавшей от него с тремя маленькими сыновьями в Америку, тоже отправился в Новый Свет. Это были для писателя годы смятения, душевного хаоса, бесконечных метаний между первой семьей и новой привязанностью, которая в конце концов привела к браку с Маргарет Маршалк. Десятилетний семейный кризис нашел многократное эхо в его произведениях (стихотворный эпос «Мэри», Раутенделяйн-Маргарет в «Потонувшем колоколе», сюжет в «Атлантиде» и т. д.).
Когда немецкие читатели романа «Атлантида» через несколько месяцев после его публикации переживали трагедию «Титаника», им казалось, что Гауптман визионерски предчувствовал океанскую катастрофу, настолько совпадали рассказы спасенных пассажиров «Титаника» с описанными Гауптманом событиями – штормом, а затем гибелью парохода «Роланд». Рассуждения о мистическом даре, предвосхищении, пророческих предвидениях Гауптмана приводили к тому, что в романе «Атлантида» основное внимание обращалось на первую – «океанскую», а не на вторую – американскую часть романа. Этому помог, правда, и сам писатель: в романе существует известная диспропорция – поэтическое воображение писателя ярче, чем Америку, воспроизвело поведение людей до катастрофы, в момент, когда она разразилась, спасение некоторых избранников судьбы и весь комплекс идей и размышлений Гауптмана, привязанных к кораблекрушению. Нет ничего удивительного в том, что замкнутый мир «Роланда» изображался как символ современного общества, а его погружение в пучину имеет не только мистический, но и социальный, хотя и не очень ясный, смысл. Судьба «Роланда» лейтмотивно связывается с исчезновением мифического материка Атлантиды, имя которого вынесено Гауптманом в название романа. Главный герой романа Фридрих фон Каммахер, не слишком замаскированный двойник автора, повторяет путь самого Гауптмана из Парижа в Гавр, оттуда в Англию, чтобы с английских берегов отплыть в Нью-Йорк. Он – как и его создатель – находится в кризисном состоянии, уехав от душевнобольной жены вслед за очаровавшей его маленькой танцовщицей, отправившейся по контракту танцевать в Америке. Глазами Каммахера видит читатель Америку; в душе Каммахера никак не утихает главный, приводящий его в смятение вопрос, волновавший и самого Гауптмана: что есть судьба? Почему спаслись не самые умные, благородные, не самые лучшие люди, почему случай, не имеющий ни логики, ни закономерности, решал в ту роковую ночь, кому спастись или погибнуть? И есть ли долг у спасенных перед погибшими? Пожалуй, только сузив свои размышления до своей собственной участи, Каммахер увидит в своем чудесном спасении залог спасения из душевного кризиса. Этому второму спасению и посвящена вторая часть романа «Атлантида».
Американская тема, возникающая здесь, стала в те годы настойчиво проникать в немецкую литературу. В 1910 году вышел роман Т. Манна «Королевское высочество», в котором больной американский миллионер спасает обнищавшее немецкое княжество одним своим переселением на его земли. Американский дядюшка у Т. Манна резко противопоставляется мечтательным и слабовольным европейцам, которые только удивляются его деловитости – даже больше, чем его богатству. В 1913 году, через год после «Атлантиды», шумный успех имел Б. Келлерман со своим романом «Туннель», в котором американский инженер, Мак Аллан становится символом новой эпохи.
В 1932 году, вспоминая свое первое путешествие в Америку, Гауптман поведал своим американским слушателям, что когда он впервые попал туда, ему показалось, что он оказался на какой-то другой планете. Однако описания американской жизни отличаются известной непроявленностью, чтобы не сказать поверхностностью. Во второй части нарастает лавина сновидений, галлюцинаторских состояний, в одном из которых раскрывается суть мифа об Атлантиде. Хотя спасение главного героя из океанской пучины есть как бы предшествующая стадия его духовного спасения, которое, собственно, и оправдывает его счастливую судьбу, однако достигнуть гармонического сочетания двух миров, или, говоря словами самого Гауптмана, «двух морей» – океана и Америки, писателю не до конца удалось, и роман «Атлантида» остался в памяти читателей прежде всего повествованием о роковом плавании «Роланда». Позднее был по роману снят фильм; главную женскую роль в нем сыграла Ида Орлов, актриса, которая в свое время прославилась исполнением в пьесах Гауптмана ролей эльфических женщин (Пиппа, знаменитая Раутенделяйн в «Потонувшем колоколе»).
Уже говорилось об особом отношении Гауптмана к Гете. В доме Маттиаса Клаузена («Перед заходом солнца») все наполнено поклонением великому веймарцу. То же, только более активно, исповедовал и сам писатель. Желание приблизиться к миру Гете, следовать за ним, вжиться в его творчество привело к появлению в последние десятилетия новелл «Сказка» и «Миньона», связанных напрямую с произведениями Гете, и – через Гете – любви к Шекспиру, особенно к «Гамлету», который на долгие годы заворожил воображение Гауптмана. «Гамлет» становится постоянным его спутником.
Изучая знаменитую трагедию Шекспира, Гауптман пришел к выводу, что ее текст неканоничен, что в нем много напластований, оставшихся от разных переписчиков, и потому предпринял смелую и явно теоретически несостоятельную попытку переработать «Гамлета» в соответствии со своими сценическими понятиями. В 1927 году в Дрездене была осуществлена постановка «Гамлета» в редакции прославленного писателя и под его собственной режиссурой. А через три года одно из издательств выпускает дорогое библиофильское издание «Гамлета» Шекспира – Гауптмана с гравюрами Э. Г. Крэга. Не получив настоящего удовлетворения от этого соревнования с великим английским драматургом, Гауптман подошел к излюбленной трагедии с другой стороны и решил сам написать пьесу о молодости Гамлета, то есть о Гамлете до его приезда в Эльсинор. Действие пьесы «Гамлет в Виттенберге» происходило во время немецкой Реформации, и сам Лютер наблюдал студенческое шествие, в котором участвовал и Гамлет, влюбленный в цыганку. В 1935 году в Лейпциге состоялась премьера пьесы «Гамлет в Виттенберге».
Продолжением этих событий в жизни Гауптмана становится его роман «Вихрь призвания» (1936), подчеркнувший еще раз связь творческого мира старого писателя с традициями Гете и его эпохи. В этом романе есть прямые, легко угадываемые аллюзии с гетевским «Вильгельмом Мейстером», поскольку и герой Гете, и герой романа «Вихрь призвания» ставят «Гамлета», изучают его, рассуждают о нем и свои поступки часто приноравливают к нему и оценивают через призму шекспировских идей. Правда, в подтекст романа властно врывается и автобиографическая нота: доктор Эразм Готтер – двойник молодого Гауптмана, он в романе наследует переживания самого автора, его близость к повествователю не только не скрывается, но скорее откровенно подчеркивается совпадением дат, возраста, семейного положения и даже центрального мотива и основных эпизодов. Известно, что Гауптман всю жизнь был привязан к северным ландшафтам Германии. Действие в «Вихре призвания» разворачивается на фоне именно этих пейзажей, куда Гауптман в двадцатитрехлетнем возрасте попал впервые по приглашению своего друга. Как и доктор Готтер, он жил в садовом домике, познакомился с любительской театральной труппой, но дальнейшие события попадают в роман из позднейших, уже не юношеских переживаний Гауптмана. Известная комбинация, соединение и наложение отдельных событий друг на друга в авторском сознании были тем более естественны, что старый писатель одновременно в те месяцы и годы работал еще над двумя автобиографическими книгами – «Книга страсти» и «Приключения моей юности», параллелизм с которыми легко обнаруживается. И хотя этот роман в критике часто называют «гамлетовским романом», все-таки комплекс шекспировских, гамлетовских идей служит раскрытию основной, центральной проблемы – проблемы художника. Действие в княжестве с вымышленным названием Границ происходит в 1885 году, то есть когда Гауптману, как Эразму Готтеру, было двадцать три года. Но время написания этой книги – середина тридцатых годов, и переживания молодого Готтера окрашены в темные и мрачные тона, больше связанные с настроениями старого Гауптмана, чем юного, никому еще не известного начинающего литератора.
Томас Манн, называвший в прежние годы Гауптмана счастливым человеком и баловнем судьбы, полагал, что в тридцатые-сороковые годы Гауптман «несказанно терзался, видя, как гибнут страна и народ, которых он любил. На своих поздних портретах он походит на мученика, а им-то как раз он и не хотел стать».
Увлеченно занимаясь с труппой княжеского театра постановкой шекспировской трагедии, Готтер попадает в цепи сложных взаимоотношений с разными людьми, особенно женщинами, одевая свои переживания в слова Шекспира, примеряя к себе и своим друзьям и знакомым гамлетовские ситуации. Современники легко угадывали в центральном герое самого Гауптмана, его жене Китти – первую жену Гауптмана, в актрисе Ирине Белль – уже упоминавшуюся выше Иду Орлов. И даже для принцессы Дитты можно было найти прототип в Элизабет фон Шаумбург, которая некоторое время была женой младшего сына Гауптмана Бенвенуто. Однако эти конкретные связи с действительностью не могли помешать тому, что Эразм Готтер в романе часто болезненно перемешивая реальность и поэзию, перестал различать границы между своим вымышленным, а иногда и проникнутым мистикой миром и своей настоящей жизнью. Окружающие тоже решительным образом соединяли его имя и имя шекспировского героя, а Ирина Белль и принцесса Дитта оказывались двумя Офелиями в придворном театре и в сердце Эразма Готтера. Гауптман использовал в этой книге свое блестящее знание театра, сделав произведение не только «гамлетовским романом», но и настоящим «театральным романом». Скептики замечали даже, что это не роман, а инструкция немецким актерам, собирающимся ставить «Гамлета». Готтер излагает своим коллегам мысли самого писателя, высказанные им в приложении к изданию его версии «Гамлета», да и ставит Готтер не канонического Шекспира, а именно «Гамлета» в обработке Гауптмана.
Но есть в этом романе, исполненном сильных, но часто и тривиальных страстей, размышлений, снов, страхов, мистики, нечто, делающее его истинно театральным романом – это легкая, не без лукавства или насмешки игра Гауптмана со своими персонажами. Если в пьесе «Перед заходом солнца» гетевские мотивы подавались всерьез, то здесь мимолетные аналогии с героями «Вильгельма Мейстера» подчеркивают некоторую литературность, вторичность мира чувств, сновидений и страстей, которыми живут персонажи вблизи княжеского замка и в садовом домике. Бегство от обманчивой прельстительности театрального мира и княжеского двора облегчает Готтеру его болезнь, то есть настоящие, а не иллюзорные страдания, приводящие главного героя к исцелению от духовной сумятицы.
Однако сам автор в сороковые годы не мог уйти от своего мрачного настроения, определяемого не только его глубокой скорбью, но и его двусмысленным положением в третьей империи, положением гуманиста среди варваров, как это было с его Маттиасом Клаузеном.
В двух последних новеллах «Сказка» и «Миньона», настойчиво своими названиями напоминавших одноименные произведения Гете, улавливается скрытая полемика с великим старцем из Веймара. Вместо гармонии и оптимизма, излучаемых образами Гете, в новеллах царствует бесконечная усталость, шопенгауэровский пессимизм одинокого художника. Всю жизнь старался Гауптман следовать гуманистической вере в красоту и справедливость добра, но в последнее пятилетие его жизни из-под его пера выходили только такие мрачные драмы, как тетралогия об Атридах, новеллы, мир которых контрастен миру Гете, и стихи, исполненные глубокого отчаяния. Но тот почти языческий культ солнца, который сопровождал Гауптмана от пьесы «Перед восходом солнца» до драмы «Перед заходом солнца», еще раз прозвучал в его завещании, в соответствии с которым его похоронили в 1946 году в ранние предутренние часы перед восходом солнца на его любимом северном побережье.
ГЕРХАРТ ГАУПТМАН
Герхарт Гауптман
Перевод Л. Гинзбурга
Семь пассажиров храпят, устав.
Мне одному не спится.
И в торжественно-мерном круженье
Проплывают призраки за окном.
И при свете мигающей лампы в нем
Возникает мое отраженье.
Поезд летит все быстрей, быстрей
Мимо рвов и крутых косогоров,
Мимо чащ, мимо рощ, мимо пустырей,
Мимо стен летит и заборов.
Между тем сгущается мгла вокруг,
И горячие слезы из глаз моих вдруг
Бегут, лицо заливая.
Сердце дикой охвачено колотьбой,
И уже не властен я над собой,
В сладкой прихоти изнывая.
Рвануться бы в лунную ночь, туда,
В сгустившийся сумрак синий,
За телеграфные провода
Вдоль косо бегущих линий.
И опять открывается передо мной
Озаренная точно такой же луной
Ночь, блаженней которой нет в мире.
Я, как в сон, погружаюсь в нее, и вот
Снова эльфы ведут близ пруда хоровод,
Им эльф играет на лире.
Да, помнится, эльф так волшебно играл,
Что трава шелестеть не смела.
Ручеек возле мельницы замирал:
От восторга вода немела.
И сверкали слезинки чистейших рос
На глазенках ландышей, диких роз,
А в долине, помню, в долине
Внимали этой игре певцы,
Сладкозвучных, нежнейших мелодий творцы,
Кой-чему научившись отныне.
Но все дальше уносится поезд стальной,
Сон мой дивный обдавши чадом.
Прорезает гору он, как шальной,
Пролетает над водопадом.
В лихорадке - планета. Клокочет шквал.
Что за демон меня в своих лапах сжал
И несет в беспредельные дали,
Не давая остаться мне при луне,
Здесь, с самим собою наедине,
И чтоб звезды друг другу мигали?..
Исчезает виденье в дыму, в чаду.
А внизу подо мной все грохочет,
Громыхает, беснуется, как в аду,
Все ревет и смолкнуть не хочет.
То кряхтенье, то стон оглашают ночь.
Будто весь этот поезд по рельсам волочь
Привелось циклопам громадным,
И они, надрываясь, взывают к нам
Своим голосом, гулким, подобным громам,
Умоляющим и беспощадным:
«Сквозь душистую ночь вас несем мы сейчас,
В изможденье хрипя и стеная.
Мы дома золотые воздвигли для вас,
Словно коршуны, крова не зная.
Мы ткем для вас платья, мы хлеб вам печем,
Вы нам платите смертью, нуждою, бичом.
Но мы сломаем оковы!
Мы добро, что вы взяли, объявим своим.
Нас измучила жажда: мы крови хотим!
Мы к отмщенью, к отмщенью готовы!
Мы грубый, безжалостный, грозный народ,
И помыслы наши кровавы.
Но сбросьте с нас бремя скорбей и невзгод,
На жизнь и на смерь дайте право!
О, если, свой каторжный меряя путь,
Мы сможем хоть раз всею грудью вздохнуть,
То песня громовая грянет:
На песенки эльфов мотив не похож,
Он мрачен, он яростью дышит, и все ж
Он гимном столетия станет!..
Ты хочешь постичь эту песню, пиит?
Забудь же о чахлой свирели!
Услышь, как машина победно гремит,
Как рельсы стальные запели!
Взвиваются искры - гудят провода,
Дымят пароходы - клокочет вода!
Но, полн состраданья святого,
Ты чуткое ухо свое склони
К стенаньям и воплям людским, чтоб они
В стихах твоих ожили снова!..»
Трясется, несется, летит состав,
Сквозь лунную полночь мчится.
Семь пассажиров храпят, устав,
Мне одному не спится.
То гаснет лампа, то вновь мигнет,
А вагон то качнет, то толкнет, то тряхнет,
Грохот невероятен.
Но, слух обретя и волшебно прозрев,
Отчетливо слышу тот зов, тот напев,
Он в хаосе звуков мне внятен.
Вот стихает слегка, вот нахлынет опять,
Словно вырвавшись прямо из бездны,
Чтобы свирепствовать и бушевать,
Неистовый грохот железный.
Он все заполняет собой, а затем
Смолкает и вдруг исчезает совсем,
Будя и желанье и волю -
Напевом, рожденным небесной весной.
На высях житейских, средь жизни земной
Всем сердцем насытиться вволю!
Перевод В. Левика
Германия, великая страна,
Зловонной уподобилась трясине,
Где все, чем в мире славилась она,
Бесславно гибнет в липкой смрадной тине, -
Плодильня трупных мух, гнойник земной,
Для палачей Эдемом ставший ныне!
Свой клюв стервятник притупил жратвой,
Не зная страха, входят в храм гиены
И нагло пожирают хлеб святой,
И гадят на пол, мочатся на стены,
И тигр мурлычет, кровью пресыщен,
И лишь глаза горят огнем геенны.
Ему готовят европейский трон.
Пред ним рагу из падали. Он смрадом
И зрелищем гниенья упоен.
И, осмелев, шакалы бродят рядом.
И чьи-то кости в темноте хрустят.
И шепчет мир, ища смятенным взглядом:
«Где зверь? Кого он жрет?» Мой скорбный брат!
Пройди с поникшим от печали взором.
Пройди скорей и не гляди назад,
На гноище, смердящее позором!
«Приди и властвуй, Новый год…»
Перевод Л. Гинзбурга
Приди и властвуй, Новый год
от дня рождения Христова,
во имя счастья всеземного
сплотив наш человечий род!
Твой путь снегами занесен,
но за невидимой чертою
ты лучезарно осенен
господней милостью святою.
Смыкаясь с дальним новогодьем,
среди зимы весну таят
и летним дышат плодородьем.
Вино осеннее бурлит…
Движенье дней угодно богу…
И все зовет, и все велит:
Вперед! Вперед! Вперед! В дорогу!.
Герхарт Гауптман (1862–1946). - По преимуществу драматург и прозаик. Представитель натурализма, долгое время был под влиянием неоромантизма (немецкой разновидности символизма). Пьесы «Ткачи» (1892), «Затонувший колокол» (1897), «Перед заходом солнца» (1932) и др. принесли ему всемирную известность. Дебютировал подражательными стихами («Весна любви», 1881), вернулся к поэзии на склоне лет («Новые стихи», 1946). Перевел «Гамлета» В. Шекспира (1930). Лауреат Нобелевской премии (1912). В годы нацизма престарелый писатель оставался в Германии.
Моему отцу Роберту Гауптману посвящаю я эту драму.
Милый отец, если я посвящаю эту драму тебе, это продиктовано чувствами, которые ты знаешь и о которых здесь нет нужды распространяться.
Твой рассказ о деде, который в юности бедным ткачем, как изображенные здесь, сидел за ткацким станком, послужил зерном моего произведения, и, способно ли оно к жизни или сердцевина у него гнилая, оно является лучшим, что может дать «такой бедняк, как Гамлет».
Твой Герхарт
Действие первое
Лица первого действия
Группа фабрикантов.
Дрейсигер, владелец канатной фабрики.
Пфейфер, приемщик; Нейман, кассир; Ученик – служащие у Дрейсигера.
Группа ткачей.
Старый Баумерт.
Первый ткач.
Первая ткачиха.
Старый ткач.
Ткачи и ткачихи.
Просторная, оштукатуренная в серый цвет комната в доме Дрейсигера в Петерсвальдене. Помещение, где ткачи сдают готовый товар. Налево – окна без занавесок, на заднем плане стеклянная дверь, такая же дверь направо; в последнюю непрерывно входят и выходят ткачи, ткачихи и дети. Вдоль правой стены, которая, как и другие стены, в большей своей части заставлена подставками для развешивания нанки, тянется скамейка; на ней вновь приходящие ткачи раскладывают свой товар для проверки. Приемщик Пфейфер стоит за большим столом, на котором каждый ткач разворачивает принимаемый товар. Пфейфер рассматривает ткань лупой и меряет ее циркулем. Когда это исследование кончено, ткач кладет нанку на весы и конторский ученик проверяет ее вес. Сняв с весов, ученик кладет товар на полки, служащие складочным местом для принятого товара. После каждой приемки приемщик Пфейфер громко выкликает, сколько денег должен уплатить рабочему кассир Нейман.
Жаркий день в конце мая. Часы показывают полдень. Большинство толпящихся ткачей имеют вид, словно они стоят перед каким-то судилищем и с мучительной тревогой ожидают, что оно им присудит – жизнь или смерть. В то же время на их лицах лежит отпечаток какой-то подавленности; то же бывает на лице нищего, который живет подачками и, переходя от унижения к унижению, в постоянном сознании, что его только терпят, привык съеживаться до последней возможности. Ко всему этому присоединяется раз навсегда застывшая на лицах черта тяжелого, безвыходного раздумья. Мужчины все более или менее похожи друг на друга; это недоразвившиеся, низкорослые, сухопарные, большей частью узкогрудые, покашливающие, жалкие люди с грязновато-бледным цветом лица – настоящие созданья ткацкого станка; их колени искривлены вследствие постоянного сидячего положения. Их жены с первого взгляда менее типичны; они имеют неряшливый, распущенный, измученный вид, тогда как мужчины все же сохраняют известное, хоть и жалкое, достоинство. Женщины одеты в лохмотья, одежда мужчин заштопана и заплатана. Некоторые молодые девушки не лишены миловидности: это хрупкие созданья с восковым цветом лица и с большими грустными глазами.
Кассир Нейман (считая деньги ). Следует получить шестнадцать зильбергрошей.
Первая ткачиха (женщина лет тридцати, очень истощенная, собирает деньги дрожащими руками ). Покорно благодарим.
Нейман (видя, что женщина не уходит ). Ну, еще что? Опять что-нибудь неладно?
Первая ткачиха (взволнованным, умоляющим голосом ). Хоть бы несколько пфеннигов вперед, в счет работы. Уж очень они мне нужны.
Нейман . Мало ли что кому нужно! Мне вот нужно несколько сот талеров. (Начинает отсчитывать деньги другому ткачу, коротко .) Выдать или не выдать вперед – это дело г[осподи]на Дрейсигера.
Первая ткачиха . Так нельзя ли мне самой поговорить с г[осподи]ном Дрейсигером?
Приемщик Пфейфер (бывший ткач. Некоторыми своими чертами он еще напоминает рабочего. Но он хорошо упитан, чисто одет, руки у него выхолены, лицо гладко выбрито. Он часто нюхает табак. Кричит грубым голосом. ) Господину Дрейсигеру и без вас делов по горло. Некогда ему заниматься такими пустяками. На то мы здесь. (Меряет циркулем и смотрит в лупу .) Господи! Вот сквозняк-то! (Он завертывает себе шею толстым шарфом .) Эй вы, кто входит, запирайте двери!
Ученик (громко Пфейферу ). Для них наши слова – что об стену горох.
Пфейфер . Готово, на весы.
Ткач кладет ткань на весы.
Не мешало бы лучше знать свое дело. В ткани узлов не оберешься, уж я смотрю сквозь пальцы. Разве порядочный ткач так делает?
Бекер (входит. Это молодой, очень сильный ткач; манеры у него развязные, почти дерзкие. Пфейфер, Нейман и ученик при его входе перекидываются многозначительными взглядами ). Эх, беда! Пропотел до седьмого пота!
Старый Баумерт (протискивается через стеклянную дверь. За дверью виднеются ожидающие ткачи; они стоят тесной толпой, прижавшись один к другому. Старик, прихрамывая, пробирается вперед и кладет свою ношу на скамью рядом с Бекером. Он садится тут же и утирает пот с лица ). Ох, теперь можно и отдохнуть.
Бекер . Да, отдых слаще денег.
Старый Баумерт . Ну, я и от деньжат бы не отказался. Здорово, Бекер!
Бекер . Здорово, дядя Баумерт! Нам опять придется ждать здесь до второго пришествия.
Первый ткач . Они с нами не церемонятся. Велика птица ткач. Ткач и час подождет, и день подождет.
Пфейфер . Эй, тише вы там! Собственного своего слова не слыхать.
Бекер (тихо ). Он сегодня, кажется, опять не в духе.
Пфейфер (стоящему перед ним ткачу ). Сколько раз я говорил: нужно работать чище. Что это за грязь? Тут и солома, и узлы в целый палец длиной, и еще какая-то дрянь.
Ткач Рейман . Чтобы узлы выковыривать, надо бы дать нам новые щипчики.
Ученик (взвешивает товар ). Есть нехватка и в весе.
Пфейфер . Ну уж и ткачи нынче пошли! Гроша медного не стоят. Да, господи Иисусе, в мое время не то было. Мне бы попало от мастера за такую работу. На такую работу тогда бы и смотреть не стали. В те времена нужно было знать свое ремесло. Теперь этого больше уже не требуется. Рейману десять зильбергрошей!
Ткач Рейман . Ведь фунт полагается на утерю.
Пфейфер . Мне некогда, довольно! А тут что такое?
Ткач Гейбер (развертывает свой товар. В то время, как Пфейфер рассматривает ткань, Гейбер подходит и тихим, взволнованным голосом говорит ему ). Уж вы извините г[осподи]н Пфейфер, я осмеливаюсь покорнейше просить вас, окажите божескую милость, сделайте мне такое одолжение – не вычитайте с меня на этот раз то, что забрал вперед.
Пфейфер (меряя и рассматривая в лупу, говорит с усмешкой ). Ну вот еще! Этого недоставало! Небось, целую половину вперед забрал.
Ткач Гейбер (продолжая тем же тоном ). Я бы на той неделе с радостью все отработал. Да вот на прошлой неделе мне пришлось два дня отбывать барщину. А тут еще жена лежит больная…
Пфейфер (кладет работу Гейбера на весы. Рассматривая новый кусок ткани ). И эта работа никуда не годятся. Кромка ни на что не похожа: то узкая, то широкая. Что за безобразие! Здесь уток стянут, там прибавлено много лишнего. На дюйм не приходится и семидесяти ниток. Где же остальные? Разве это добросовестно? Нечего сказать, наработал!
Ткач Гейбер глотает слезы, стоит в приниженной и беспомощной позе.
Первая ткачиха (Во все время действия она не отходила от кассы и от времени до времени поглядывала вокруг и словно искала помощи. Собравшись с духом, она снова обращается к кассиру и умоляющим голосом просит его .) Я же ведь скоро отработаю; уж не знаю, что со мной и будет, коли вы не дадите мне ничего вперед на этот раз. О господи-господи!
Пфейфер (кричит на нее ). Это еще что за причитание? Оставь ты господа бога в покое. Ведь ты, небось, не больно-то много о нем думаешь! Лучше смотри за своим мужем, чтобы он не таскался по кабакам. Мы не можем дать ничего вперед. Ведь это не наши деньги. Ведь их с нас спросят. Кто работает прилежно, кто знает свое дело, кто живет богобоязненно, – тому не приходится забирать вперед. Вот тебе и весь сказ.
Нейман . Здешнему ткачу хоть вчетверо больше плати, все равно он вчетверо больше пропьет и еще долгов наделает.
Первая ткачиха (громко, как бы требуя справедливости у всех присутствующих ). Уж говорите что угодно, а только я не лентяйка. Что ж поделаешь, коли моченьки нет. С меня уж два раза вычеты делали. О муже мне и не говорите: он в счет не идет. И то он уж ходил лечиться от запоя к церлаускому пастуху, да никакого толку из этого не вышло. Ничего с этим не поделаешь, когда человека к вину тянет… А мы работаем, сколько хватает сил. Мне уж которую неделю и задремать-то некогда… Все пойдет у нас на лад, лишь бы эту слабость проклятую из костей вон выгнать. Поймите же, господин, что и мне не сладко. (Льстивым, заискивающим тоном .) Уж я вас покорнейше прошу, будьте такие добрые, прикажите выдать мне и на этот раз несколько грошей вперед.
Пфейфер (продолжая свое дело ). Фидлеру одиннадцать зильбергрошей.
Первая ткачиха . Всего пару грошиков на хлеб! Пекарь в долг больше не дает. У меня ребят целая куча.
Ученик (кончая напев, к Нейману ). А ребенок вот какой: целых шесть недель слепой. Тра-ля-ля, тра-ля-ля.
Ткач Рейман (не прикасаясь к деньгам, которые отсчитал кассир ). Позвольте-с, мы до сих пор всегда получали по одиннадцать с половиной за кусок.
Пфейфер (кричит Рейману ). Если вы недовольны, Рейман, то вам стоит только сказать слово, и вы свободны. Вас насильно никто не держит. Ткачей и без вас много, а таких, как вы, – и подавно. Полная плата полагается только за полный вес.
Ткач Рейман . Неужто здесь не хватало в весе?
Пфейфер . Принесите кусок нанки без недостатков – и плата будет без вычета.
Ткач Рейман . Как? В моей работе много изъянов? Этого быть не может.
Пфейфер (продолжая рассматривать ткань ). Кто хорошо работает, тому хорошо и живется.
Ткач Гейбер (Все время он стоял около Пфейфера, выжидая удобной минуты, чтобы заговорить с ним. При последних словах Пфейфера он улыбается и, выступив вперед, обращается к нему тем же тоном, как и первый раз .) Я бы желал покорнейше попросить вас, господин Пфейфер, будьте великодушны. Явите божескую милость, не вычитайте с меня на этот раз. Моя старуха с самого поста не встает с постели, скрючило ее совсем. Шпулыцицу нанимать приходится, ну и…
Пфейфер (нюхает табак ). С вами одними мне заниматься некогда. Ведь и другие ждут.
Ткач Рейман . Видно, основа была такая. Что получил, то и натянул на станок, то и снял с него. Не могу я ее сделать лучше, чем она есть.
Пфейфер . Если вы не довольны основой, то и не приходите за ней. Вас, ткачей, тут достаточно. И без того много таких, которые, Христа ради, клянчат работы.
Нейман (Рейману ). Ну, что ж? Берешь деньги?
Ткач Рейман . Я не могу помириться на этих деньгах.
Нейман (не обращая никакого внимания на Реймана ). Гейберу десять зильбергрошей.
Ткач Гейбер (подходит, смотрит на деньги, качает головой, как бы не веря своим глазам, потом медленно и обстоятельно прячет деньги ). Ох господи-господи (вздыхает ), ох-ох-о-о…
Старый Баумерт (наклоняясь к Гейберу ). Да-да, дядя Франц. Нашему брату только и остается, что вздыхать и охать.
Ткач Гейбер (говорит через силу ). У меня дома дочурка больная лежит. Скляночку лекарства надо бы принести…
Старый Баумерт . А что у нее болит?
Ткач Гейбер . Да так… она от роду была плохонькая… Я и сам не знаю… Ну, да уж тебе я, так и быть, скажу, она ребеночка родила. Ну, известное дело, какая у нас чистота. Вот с грязи-то она и хворает…
Старый Баумерт . У каждого что-нибудь да есть. Уж, где завелась бедность, там беда приходит за бедой. И удержу им нет, и передышки нет.
Пфейфер (рассмотрев ткань Бекера, кричит ). Бекер! Тринадцать зильбергрошей.
Бекер . Это что ж за получка? Это жалкая милостыня!
Пфейфер . Кто получил деньги, уходи вон! Один здесь торчит, а другие с места не могут двинуться.
Бекер (обращаясь к толпе, громким голосом ). Паршивая подачка! Только и всего! Чтобы ее получить, изволь-ка работать с раннего утра до поздней ночи. Сидишь, сидишь 18 дней, скрючившись за станком, задыхаешься от пыли, купаешься в собственном поту, а в конце концов зарабатываешь тринадцать грошей!
Пфейфер . Чего глотку дерешь?
Бекер . Так что ж что деру? Все равно вы мне ее не заткнете!
Пфейфер (вскакивает и кричит ). Это мы еще посмотрим! (Бежит к стеклянной двери и кричит .) Господин Дрейсигер! Господин Дрейсигер! Будьте так добры!
Дрейсигер (входит. Это моложавый человек лет сорока, упитанный, астматичный. Обращаясь к Пфейферу, строгим голосом ). Что здесь случилось, Пфейфер?
Пфейфер . Бекер скандалит и не хочет уняться.
Дрейсигер (приосанивается, откидывает назад голову и пристально смотрит на Бекера. Его ноздри вздрагивают ). Ага, Бекер! (К Пфейферу .) Это вот этот?
Служащие утвердительно кивают головами.
Бекер (смело ). Да-да, г[осподи]н Дрейсигер (указывая на себя ), это вот этот (указывая на Дрейсигера ), а это вот тот.
Дрейсигер . Это еще что за вольности?
Пфейфер . Видно, ему слишком хорошо живется. Стоит на тонком льду и пляшет. Уж и допляшется он когда-нибудь, нарвется как следует!
Бекер (выходя из себя ). Ах ты, грошевая тварь! Заткни и ты свою поганую глотку. Видно, твоя мать с домовым зналась и ездила к нему на помеле в новолунье! Потому-то ты и уродился таким чертом!
Дрейсигер (придя в бешенство, рычит ). Замолчи! Слышишь, сейчас же замолчи, а то смотри, я тебя… (Он дрожит всем телом и делает несколько шагов вперед .)
Бекер (решительно и не отступая ). Я еще не глух. Пока что я еще хорошо слышу.
Дрейсигер (делает над собой усилие и говорит деловым тоном с кажущимся спокойствием ). Этот человек был тогда с ними.
Пфейфер . Это ткач из Билау. Уж где пахнет бесчинством – этот всегда там.
Дрейсигер (дрожит ). Раз навсегда говорю: если мимо моего дома еще когда-нибудь пройдет, как вчера вечером, целая орава полупьяных людей, шайка бессовестных скандалистов с этой подлой песней…
Бекер . Вы говорите о всем известной песне?
Дрейсигер . Ты сам знаешь, о чем я говорю. Так я тебе говорю: если это повторится еще раз, я клянусь богом, без всяких шуток, я велю схватить кого-нибудь из вас и предам его в руки властей. А если я узнаю, кто сочинил эту отвратительную песню…
Бекер . Песня эта очень хорошая.
Дрейсигер . Если ты скажешь еще одно слово, я сейчас же пошлю за полицией. Я шуток не люблю. С вами, молодцами, мы отлично справимся. Мне приходилось справляться и не с такими, как вы.
Бекер . Ну что ж, я вам верю. Настоящий фабрикант, как вы, справится с двумя-тремястами ткачей в минуту. Не успеешь оглянуться, как справится… Ведь вы на все пойдете…
Дрейсигер (к своим служащим ). Никакой работы этому человеку никогда больше не давать.
Бекер . Нашли, чем пугать!
Дрейсигер . Вон, сию же минуту вон!
Бекер (твердо ). Я не уйду, пока не получу плату за работу.
Дрейсигер . Сколько следует получить этому нахалу, Нейман?
Нейман . Двенадцать зильбергрошей и пять пфеннигов.
Дрейсигер (поспешно выхватывает у кассира деньги и бросает их на прилавок; несколько монет скатываются на пол ). Вот, получай и скорее с глаз моих долой.
Бекер . Я не уйду, пока не получу плату за свою работу.
Дрейсигер . Вот твоя плата, подбирай, и если ты сейчас же не уберешься… Теперь как раз полдень… У моих маляров обеденный отдых…
Бекер . Плата за мою работу должна быть здесь. (Он дотрагивается пальцами правой руки до ладони левой руки ).
Дрейсигер (к ученику ). Поднимите, Тильгнер.
Ученик поднимает деньги и кладет их Бекеру в руку.
Бекер . Надо, чтобы все было честь честью. (Не спеша прячет деньги в старый кошелек .)
В толпе ткачей происходит движение. Слышится чей-то долгий, глубокий вздох. После этого слышно, как что-то упало на пол. Это происшествие отвлекает общее внимание в другую сторону.
Дрейсигер . Что там случилось?
Ткачи и ткачихи . Здесь кто-то упал. – Какой-то маленький худенький мальчишка. – Что он, болен что ли?
Дрейсигер . Как так? Где?
Старый ткач . Да вот лежит.
Толпа расступается. Видно мальчика лет восьми, лежащего на полу без признаков жизни.
Дрейсигер . Чей это мальчик? Кто его знает?
Старый ткач . Он не из нашей деревни.
Старый Баумерт . Да никак это Генрихов мальчишка. (Рассматривает его ближе .) Да-да, это Густав, сынишка Генриха.
Дрейсигер . Где живут его родные?
Старый Баумерт . Там, у нас, в Кашбахе, г[осподи]н Дрейсигер. Он ходит играть музыку. А днем он сидит за станком. У них девять человек детей, а скоро будет и десятый.
Ткачи и ткачихи . Этим людям больно плохо приходится. – В их жилье даже дождь сквозь крышу капает. – На девять человек ребят у них всего две рубашки.
Старый Баумерт (дотрагивается до мальчика ). Эй, детка, что с тобой? Проснись, посмотри на меня!
Дрейсигер . Помогите-ка! Давайте поднимем его. Какое безрассудство посылать такого слабого ребенка в такой далекий путь! Принесите-ка немного воды, Пфейфер.
(помогающая поднять ребенка ). Ты смотри не помри! Вот-то будет штука.
Дрейсигер . Или коньяку, Пфейфер. Лучше коньяку.
Бекер (Он всеми забытый стоял до этого времени и наблюдал ). Дайте ему что-нибудь поесть, тогда он живо придет в себя. (Уходит .)
Дрейсигер . Этот шелопай хорошо не кончит. Возьмите мальчика под руки, Нейман. Тихонько, тихонько… так… так… Снесите его в мою комнату. Что вы, Нейман?
Нейман . Он что-то сказал, г[осподи]н Дрейсигер. Он шевелит губами.
Дрейсигер . Что тебе надо, дитя?
Мальчик (шепчет ). Есть хочется…
Дрейсигер (бледнеет ). Нельзя понять, что он бормочет.
Кажись, он сказал…
Дрейсигер . Ну, мы увидим. Только не задерживайте нас. Я его положу у себя на диване, посмотрим, что скажет доктор.
Дрейсигер, Нейман и ткачиха несут мальчика в контору. Среди ткачей движение вроде того, которое бывает у школьников, когда учитель выходит из класса. Кто потягивается, кто шепчется, кто переступает с ноги на ногу; через несколько секунд слышится всеобщий громкий говор.
Старый Баумерт . А ведь мне думается, что Бекер прав!
Некоторые ткачи и ткачихи . Разумеется, прав. – У нас это не новость, что человек умирает с голоду. – Ох, что-то будет зимой, если нас не перестанут прижимать. – А насчет картофеля в этом году совсем дела плохи.
Старый Баумерт . Уж умнее всего сделал ткач Нентвиг – засунул голову в петлю да и повесился на том же станке. Не хочешь ли табачку? Я был в Нейроде, там у меня зять на табачной фабрике работает. Он мне и насыпал немножко. Что это ты несешь в узелке?
Старый ткач . Это у меня горсточка перловой крупы. Передо мной ехала телега мельника из Ульбриха; в одном мешке была дыра… Уж как я ей обрадовался!
Старый Баумерт . В Петерсвальде 22 мельницы, а нам все-таки ничего не перепадает.
Старый ткач . Чего вешать нос-то? Судьба что-нибудь да пошлет. Как-нибудь да пробьемся!
Ткач Гейбер . Говорят, когда человека разбирает голод, надо молиться 14-ти заступникам, а то взять в рот камень и сосать его – это помогает.
Дрейсигер, Пфейфер и кассир возвращаются.
Дрейсигер . Ничего особенного. Мальчик теперь совсем пришел в себя. (Взволнованно и пыхтя ходит взад и вперед .) Все-таки это бессовестно. Такое дитя – что твоя травинка: подул ветер, и она согнулась. Просто непонятно, как это люди… как это родителя могут быть так неблагоразумны: навьючивают на ребенка два куска нанки и заставляют его нести их 10 верст. Даже трудно поверить. Просто-напросто надо сделать распоряжение, чтобы от детей товара впредь не принимали. (Некоторое время молча ходит взад и вперед .) Во всяком случае я настоятельно желаю, чтобы подобных вещей больше не повторялось. И кто в конце концов в ответе? Конечно, мы, фабриканты. Мы во всем виноваты. Если такой жалкий ребенок в зимнее время застрянет в снегу и заснет, сейчас же является какой-нибудь досужий писака – и через два дня страшная история пошла гулять по всем газетам. А отец? А родители, которые посылают такого ребенка… сохрани бог, чем же они виноваты? Все с фабриканта спрашивается, фабрикант – какое-то козлище отпущения. Ткача вечно гладят по головке, а фабриканта вечно ругают: он-де человек бессердечный, опасный плут, которого каждая порядочная собака должна хватать за икры.
Фабрикант живет среди роскоши и удовольствий, а бедным ткачам платит «нищенскую плату». И знать ведь не хотят, что у такого человека масса работы и бессонных ночей, что он несет большой риск, который ткачам и во сне не снится, что от постоянных расчетов и подсчетов, делений, вычитаний и сложений он подчас теряет голову, что у него тысяча сомнений и волнений, что он беспрерывно ведет, так сказать, борьбу на жизнь и на смерть с конкурентами, наконец, что у него ни одного дня не проходит без потерь и огорчений, – обо всем этом, уж конечно, молчок. И кто только не садится фабриканту на шею, кто только не высасывает из него крови, и кто не живет на его счет? Попробовали бы вы хоть денек побыть в моей шкуре – вам бы скорехонько невмоготу стало. (После паузы .) Вот хотя бы этот негодяй, этот Бекер – какие он штуки тут выкидывал! Теперь он уж наверно станет трубить по всему свету, что я настоящий зверь. И что будто я из-за каждого пустяка то и дело выбрасываю рабочих на улицу. Неужто это правда? Неужто я в самом деле такой зверь?
Дрейсигер . Ну вот то-то же и есть. И к тему же бездельники шляются везде и поют скверные песни про нас, фабрикантов. Говорят о голоде, а у самих, небось, есть деньги, чтобы дуть водку целыми четвертями. Попробовали бы они сунуть свой нос в другие места и посмотреть, каково живется, например, рабочим на льняных фабриках. Тем действительно есть на что пожаловаться. Но вы-то еще что! За свою жизнь вы должны господа бога благодарить. Ну, отвечайте мне, старые прилежные ткачи, какие тут есть, может или не может порядочный ткач, знающий свое деяо и работающий у меня, сводить концы с концами?
Дрейсигер . Ну, вот видите. А вот такой негодяй, Бекер, конечно, не может. Вот я вам и советую: держите таких буянов на уздечке, не давайте им воли. Коли мне станет совсем невтерпеж от разных беспокойств и неприятностей, я прикончу все свои дела и закрою фабрику. А тогда с вами-то что будет? Посмотрим тогда, вы найдете работу. У вашего Бекера вы ее не найдете.
Первая ткачиха (подобралась к Дрейсигеру и с льстивым подобострастием счищает пыль с его сюртука ). Вы себя маленько испачкали, г[осподи]н Дрейсигер.
Дрейсигер . Дела идут как нельзя хуже, это вы знаете сами. Я еще прибавляю к делу, вместо того чтобы получать прибыль. И если я, несмотря на это, постоянно забочусь о том, чтобы мои ткачи не оставались без работы, то я надеюсь, что вы это цените. У меня лежат тысячи тюков товара, и я не знаю, удастся ли мне когда-нибудь распродать их. Недавно я узнал, что многие ткачи в окрестностях фабрики сидят без работы, ну, вот я и… но пусть Пфейфер расскажет вам подробности. Впрочем, дело вот в чем (цените мое доброе желание)… конечно, не могу же я раздавать милостыню – не такой я богач, – но я могу до известной степени дать безработным возможность сколько-нибудь заработать. Что я при этом несу громадный риск – это, конечно, мое дело. Я рассуждаю так: если человек может заработать себе в день хотя бы на кусок хлеба, это все-таки лучше, чем если бы он сидел совсем голодный. Разве я не правильно говорю?
Дрейсигер . Итак, я охотно дам работу еще двумстам ткачам, на каких именно условиях – пусть вам это объяснит Пфейфер.
Первая ткачиха (преграждая ему дорогу, говорит торопясь, умоляющим голосом ). Господин Дрейсигер, пожалуйста, очень прошу вас. Дайте ваше согласие… у меня два раза были вычеты.
Дрейсигер (поспешно ). Поговорите с Пфейфером, милая. А я и так уж запоздал. (Он отходит и оставляет ее ни с чем .)
Ткач Рейман (также становится ему поперек дороги. Говорит тоном обиды и обвинения ). Господин Дрейсигер, я, право же, должен вам пожаловаться. Господин Пфейфер меня… я до сих пор всегда получал за свою ткань двенадцать с половиной зильбергрошей.
Дрейсигер (перебивает его ). Вот приемщик. К нему и обращайтесь. Разве вы не знаете, кому заявлять свои просьбы?
Ткач Гейбер (останавливает Дрейсигера ). Господин Дрейсигер (торопясь, путаясь и заикаясь ), я бы вас покорнейше просил, может быть… мне можно было бы… может быть, господин Пфейфер мог бы мне… мог бы…
Дрейсигер . Что же вам нужно?
Ткач Гейбер . В последний раз я брал вперед, ну так я хотел, я думал…
Дрейсигер . Я вас все-таки не понимаю.
Ткач Гейбер . Я, право же, очень нуждаюсь… потому что…
Дрейсигер . Да ведь это касается Пфейфера, Пфейфера! А я решительно не могу. Обделайте это с Пфейфером.
Он уходит в контору. Просящие беспомощно смотрят друг на друга. Один за другим они, вздыхая, отходят в сторону.
Пфейфер (снова принимается рассматривать ткани). Ну, дядя, что ты принес?
Старый Баумерт . Что же вы мне дадите за ткань-то, господин Пфейфер?
Пфейфер . За ткань десять зильбергрошей.
Старый Баумерт . Ну, ладно. Что же с вами поделаешь!
Движение среди ткачей, слышен глухой ропот.
Герхарт Гауптман Перед заходом солнца
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Маттиас Клаузен – холеный господин, 70 лет, тайный коммерции советник.
Вольфганг Клаузен – его сын, около 42 лет, профессор филологии. Суховат, тип немецкого профессора.
Эгмонт Клаузен (дома зовут Эгерт) – младший сын тайного советника, 20 лет, строен, красив, спортсмен.
Беттина Клаузен – дочь тайного советника, 36 лет. Слегка кривобока. Скорее сентиментальна, чем умна.
Оттилия – дочь тайного советника, 27 лет, по мужу Кламрот; хорошенькая, привлекательная женщина, ничем не выделяющаяся.
Эрих Кламрот – муж Оттилии, 37 лет. Директор предприятий Клаузена. Неотесан, деловит, провинциален.
Паула Клотильда Клаузен – урожденная фон Рюбзамен, 35 лет. У нее резкие, неприятные черты лица, длинная шея, как у стервятника. Грубая, явно чувственная внешность.
Штейниц – санитарный советник, около 50 лет. Домашний врач и друг семьи Клаузен. Холост; состоятелен, сократил свою практику.
Ганефельдт – советник юстиции, гибкий человек, 44 лет.
Иммоос – пастор.
Гейгер – профессор Кембриджского университета. Старый друг тайного советника Клаузена.
Доктор Вуттке – личный секретарь Клаузена. Маленький, кругленький, в очках.
Эбиш – садовник, за 50 лет.
Фрау Петерс, урожденная Эбиш, – сестра садовника, около 45 лет.
Инкен Петерс – ее дочь. Тип северянки.
Винтер – личный слуга тайного советника Клаузена.
Обер-бургомистр.
Председатель муниципалитета.
Члены муниципалитета.
Муниципальные советники.
Место действия – большой немецкий город.
Действие первое
Библиотека и кабинет тайного советника Маттиаса Клаузена в его городском доме. Слева над камином портрет красивой молодой девушки кисти Фридриха Августа Каульбаха . По стенам до потолка книги. В углу бронзовый бюст императора Марка Аврелия . Две двери – одна против другой, ведущие в другие помещения дома, открыты, так же как и широкая стеклянная дверь в задней стене, выходящая на каменный балкон.
На полу стоят несколько больших глобусов; на одном из столиков – микроскоп. За балконом виднеются верхушки деревьев парка, из парка доносятся звуки джаза.
Жаркий июльский день. Время – около часа.
Входит Беттина Клаузен; ее сопровождает профессор Гейгер.
Гейгер. Вот уже три года, как умерла ваша мать, и я с тех пор здесь не был.
Беттина. С отцом было очень трудно, особенно первый год. Он никак не мог прийти в себя.
Гейгер. Ваши письма, дорогая Беттина, часто внушали мне тревогу. Почти не верилось в его выздоровление.
Беттина. А я непоколебимо верила, и потому, что верила, так и случилось! (С мечтательно просветленным лицом.) Правда, я исполняла последнюю волю мамы; она буквально передала отца мне, буквально возложила на меня ответственность за его судьбу, буквально умоляла меня заботиться о нем. За два дня до смерти мама сказала: «У такого человека еще много дела на земле; его нужно сохранить надолго, и ты, Беттина, позаботься об этом. С той минуты, как я закрою глаза, начнутся твои обязанности».
Гейгер. Эти трудные обязанности вы с честью выполнили.
Беттина. Они были одновременно и трудны и легки. Вы – лучший друг отца, господин профессор, вы знали его задолго до меня и лучше меня; мне только в последние годы было дано по-настоящему понять его и приблизиться к нему. Вы представляете себе, какое значение имело для меня это время! И наконец такое счастье, такая награда за нее сделанное мной.
Гейгер. Он стал теперь совсем прежним.
Беттина. После смерти матери он словно ослеп. И должен был медленно, почти ощупью возвращаться к жизни! Он сам мне в этом признался.
Гейгер (подходит к открытой двери балкона, смотрит в сад, откуда доносятся звуки джаза). И вот в доме снова жизнь – в саду праздник: вино, прохладительные напитки… как бывало в прежние, счастливые времена.
Беттина. Да, он вернулся к жизни.
Разговаривая и, видимо, направляясь в сад, они выходят в противоположную дверь. Из той двери, откуда они раньше вошли, появляются профессор Вольфганг Клаузен и его супруга Паула Клотильда.
Вольфганг. Только что отцу преподнесли грамоту почетного гражданина нашего города.
Паула Клотильда (с притворным равнодушием). Об этом намерении уже давно болтают… Что тут особенного?
Вольфганг. Вечером от двух до трех тысяч человек – представители разных партий – устраивают в его честь факельное шествие.
Паула Клотильда. Что ж, это придется вытерпеть.
Вольфганг. Придется вытерпеть? Что ты этим хочешь сказать?
Паула Клотильда. В конце концов, что такое факельное шествие? Моему отцу, когда он был корпусным командиром, то и дело приходилось выносить подобные забавы. Дошло до того, что он почти не вставал из-за стола…