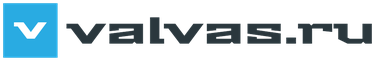Действие романа «Осенний свет» протекает в американской провинции, вдали от больших городов. Тихая жизнь маленьких поселков, далекая на первый взгляд от бессмысленной суеты и бешеного ритма мегаполисов, не чужда «проклятых» проблем технократической цивилизации, темных, гнусных сторон большого бизнеса и большой политики. Герои романа - семидесятитрехлетний фермер Джеймс Пейдж и его сестра Салли, живущие в штате Вермонт в 1976 г. после того, как страна уже отпраздновала двухсотлетие национальной независимости. В этот год старому Джеймсу Пейджу становится особенно ясно, что Америка теперь совсем уже не та, что была раньше, какой она ему всегда представлялась - страна суровых и честных людей, умеющих трудиться и постоять за себя, несущих в себе здоровое начало, исходящее от земли, от природы. Сам Джеймс был ветераном второй мировой войны, служил в десантно-инженерных войсках в Океании, и теперь каждый год он надевает свою фуражку и в День ветеранов участвует в параде в своем поселке. Он ощущает себя потомком основателей нации - Вермонтских Парней с Зеленой горы. Это они отстояли вермонтские земли от нью-йоркских спекулянтов и отбили у англичан-красномундирников крепость Тайкондерогу - настоящие люди, которые умели сражаться и верили в свою судьбу.
Джеймс - человек старых и строгих правил пуританской морали, которая составляет основу американского образа жизни и постепенно, как он считает, уступает место безнравственности, власти денег, жажде красивой и легкой жизни. Современное поколение в его глазах - «свиньи жирные - мозги куриные, этим удовольствие подавай, им бы только себя ублажить». Люди словно с ума посходили «из-за паршивых долларов» - убивают друг друга, торгуют собой, сходят с ума, а тем временем лесное хозяйство хиреет, фермерам живется все хуже, люди отвыкают работать руками, как испокон веков, и забывают, что такое честный и справедливый труд. Вот к чему пришла Америка через двести лет, считает Джеймс Пейдж, и в его воображении встают из могил отцы-основатели с запавшими глазами, в истлевших синих мундирах, с заржавленными мушкетами, чтобы возродить Америку и совершить «новую революцию».
Символом нового времени, которое не приемлет старый фермер, становится для него телевизор, без конца показывающий убийц, насильников, полицейских, полуголых баб и всяких длинноволосых «психов». Эту адскую машину притащила с собой его сестра Салли, когда переехала жить в дом брата. Салли - такая же своенравная и упрямая, как и её брат, но она придерживается во многом иных взглядов, ибо долгие годы прожила в городе вместе со своим мужем Горасом, пока тот не умер. Детей у нее нет. Нельзя сказать, что она одобряет нынешние нравы, но верит в перемены к лучшему и готова рассуждать на всякие темы, «как заядлый либерал», чем вызывает яростное недовольство своего брата, у которого собственные, выношенные жизнью убеждения уживаются с расхожими предрассудками. Раскованное поведение молодых не шокирует её, ибо она считает, что своими выходками они хотят привлечь внимание к социальной несправедливости. Она не считает телевизор дьявольским изобретением и государственной изменой, как её брат, - это её единственная связь с миром, с городской жизнью, к которой она привыкла.
Салли целыми вечерами просиживает, уткнувшись в экран, пока наконец Джеймс не выдерживает и не расстреливает телевизор из дробовика, - он стреляет в тот мир, ту жизнь, которая его обманула и предала идеалы прошлого. А непокорную старуху сестру он загоняет на второй этаж, и она в знак протеста запирается в спальне, отказываясь что-либо делать по дому. Домашняя ссора с «политическим» оттенком - оба говорят о свободе и ссылаются на конституцию Америки - затягивается. Родственникам и друзьям не удается помирить стариков, об их ссоре узнают все соседи и начинают давать советы, как поступить. Война разгорается: чтобы запугать Салли, Джеймс подвешивает перед её дверью ружье, правда незаряженное. Она же устраивает опасную ловушку, укрепив над своей дверью ящик с яблоками, чтобы он свалился на голову братцу, если тот вздумает войти к ней.
От нечего делать Салли начинает читать попавшую ей в руки книжку «Контрабандисты с Утеса Погибших Душ». Это боевик с интеллектуальной подкладкой о соперничестве двух шаек контрабандистов, занимающихся торговлей наркотиками. «Больная книга, больная и порочная, как жизнь в сегодняшней Америке» - так гласит рекламная аннотация, будто выражая суть того мира, который не приемлет Джеймс и от которого некуда спрятаться, даже если уничтожен телевизор. Две действительности как бы сходятся вместе - в одной люди живут обычными трудами, радостями, тревогами, общаются с природой, верят в «природную магию, в битву духа против тяжести материи», носят с собой череп гремучей змеи от нечистой силы; в другой - безумной действительности урбанизированной Америки - разгорается неистовая конкурентная борьба, и люди одержимы идеей наживы, сумасшедшими желаниями, иллюзиями и страхом. Таким образом, два романа и два способа изображения отражают два жизненных уклада современной Америки.
Во главе одной из шаек, у которой налажена переправка марихуаны из Мексики в Сан-Франциско, стоит капитан Кулак - циник и философ, рассуждающий о свободе и власти. Это своего рода идеолог мира наживы. Другие члены его шайки - «человечество в миниатюре» - представляют разные типы современного сознания: мистер Нуль - технократ, несостоявшийся Эдисон, воображающий, что изобретатель может переделать весь мир. Нерассуждающий мистер Ангел воплощает здоровое физическое начало - он не раздумывая бросается в воду спасать пытающегося покончить жизнь самоубийством разочарованного интеллектуала Питера Вагнера, который поневоле становится членом их экипажа. Джейн символизирует раскрепощенную современную женщину, свободную выбирать себе мужчин по вкусу. Контрабандисты встречаются с поставщиками марихуаны среди океана на пустынном острове под названием «Утес Погибших Душ». Именно там их настигают соперники - экипаж катера «Воинственный».
Жестокость, столкновение характеров, нетерпимость - вот законы жизни в преступной среде, но именно эти черты проявляются и в сельской глуши, нарушая спокойное течение семейной жизни, приводя к драме. Джеймс отличался нетерпимостью не только к телевидению, снегоходам и прочим атрибутам современности, но и к собственным детям - он затравил и довел до самоубийства своего сына Ричарда, которого считал «слабаком» и шпынял по поводу и без повода. В конце романа он прозревает, понимая, что телевизор и снегоход не самые страшные враги человека. Страшнее психологическая и нравственная слепота. Воспоминания о сыне и ссора с Салли заставляют старого фермера иначе взглянуть на себя самого. Он всегда старался жить по совести, но не заметил, что его правила превратились в мертвые догмы, за которыми Джеймс уже не различал живых людей. Он уверовал в свою правоту и оказался глух к правоте других. Он вспоминает покойную жену и сына и понимает, что при всех своих слабостях это были честные, хорошие люди, а он прожил жизнь и главного в них не заметил, потому что «имел понятия узкие и мелочные».
Джеймс навещает в больнице умирающего друга Эда Томаса, тот сожалеет, что не увидит больше раннюю весну, когда вскрываются реки и оттаивает земля. Именно так должно оттаять человеческое сердце для понимания другого сердца. В этом путь спасения человека, страны, человечества, наконец. Вот нравственный закон, который должен победить другие законы, определившие, увы, историю Америки и определяющие её жизнь сегодня, - «воинственность - закон человеческой природы», как его не без сожаления формулирует Томас Джефферсон в эпиграфе ко всему роману. В этом контексте следует воспринимать и слова другого свидетеля рождения американского государства, взятые эпиграфом к первой главе и звучащие как приговор всей орущей, стреляющей, наркотизированной и стандартизированной американской цивилизации (которую так не любили великие английские сатирики Ивлин Во и Олдос Хаксли): «Я присутствовал во дворе Конгресса, когда была зачитана Декларация независимости. Из людей порядочных при этом почти никого не было.
21 декабря 1987 – 17 июня 1988 Третья основная экспедиция на станцию "Мир". Владимир Титов и Муса Манаров возвратились на корабле Союз ТМ-6, А. Левченко - на Союзе ТМ-3. Впервые в истории космонавтики В. Титов и М. Манаров осуществили орбитальный полет длительностью 1 год. 119 "Союз ТМ-5" - "Мир" - "Союз ТМ-4" Анатолий Соловьев Виктор Савиных Александр...
Как основу для орхидейных субстратов. Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией - от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. ...
Действие романа «Осенний свет» протекает в американской провинции, вдали от больших городов. Тихая жизнь маленьких посёлков, далёкая на первый взгляд от бессмысленной суеты и бешеного ритма мегаполисов, не чужда «проклятых» проблем технократической цивилизации, тёмных, гнусных сторон большого бизнеса и большой политики. Герои романа - семидесятитрехлетний фермер Джеймс Пейдж и его сестра Салли, живущие в штате Вермонт в 1976 г. после того, как страна уже отпраздновала двухсотлетие национальной независимости. В этот год старому Джеймсу Пейджу становится особенно ясно, что Америка теперь совсем уже не та, что была раньше, какой она ему всегда представлялась - страна суровых и честных людей, умеющих трудиться и постоять за себя, несущих в себе здоровое начало, исходящее от земли, от природы. Сам Джеймс был ветераном второй мировой войны, служил в десантно-инженерных войсках в Океании, и теперь каждый год он надевает свою фуражку и в День ветеранов участвует в параде в своём посёлке. Он ощущает себя потомком основателей нации - Вермонтских Парней с Зелёной горы. Это они отстояли вермонтские земли от нью-йоркских спекулянтов и отбили у англичан-красномундирников крепость Тайкондерогу - настоящие люди, которые умели сражаться и верили в свою судьбу.
Джеймс - человек старых и строгих правил пуританской морали, которая составляет основу американского образа жизни и постепенно, как он считает, уступает место безнравственности, власти денег, жажде красивой и лёгкой жизни. Современное поколение в его глазах - «свиньи жирные - мозги куриные, этим удовольствие подавай, им бы только себя ублажить». Люди словно с ума посходили «из-за паршивых долларов» - убивают друг друга, торгуют собой, сходят с ума, а тем временем лесное хозяйство хиреет, фермерам живётся все хуже, люди отвыкают работать руками, как испокон веков, и забывают, что такое честный и справедливый труд. Вот к чему пришла Америка через двести лет, считает Джеймс Пейдж, и в его воображении встают из могил отцы-основатели с запавшими глазами, в истлевших синих мундирах, с заржавленными мушкетами, чтобы возродить Америку и совершить «новую революцию».
Символом нового времени, которое не приемлет старый фермер, становится для него телевизор, без конца показывающий убийц, насильников, полицейских, полуголых баб и всяких длинноволосых «психов». Эту адскую машину притащила с собой его сестра Салли, когда переехала жить в дом брата. Салли - такая же своенравная и упрямая, как и её брат, но она придерживается во многом иных взглядов, ибо долгие годы прожила в городе вместе со своим мужем Горасом, пока тот не умер. Детей у неё нет. Нельзя сказать, что она одобряет нынешние нравы, но верит в перемены к лучшему и готова рассуждать на всякие темы, «как заядлый либерал», чем вызывает яростное недовольство своего брата, у которого собственные, выношенные жизнью убеждения уживаются с расхожими предрассудками. Раскованное поведение молодых не шокирует её, ибо она считает, что своими выходками они хотят привлечь внимание к социальной несправедливости. Она не считает телевизор дьявольским изобретением и государственной изменой, как её брат, - это её единственная связь с миром, с городской жизнью, к которой она привыкла.
Салли целыми вечерами просиживает, уткнувшись в экран, пока наконец Джеймс не выдерживает и не расстреливает телевизор из дробовика, - он стреляет в тот мир, ту жизнь, которая его обманула и предала идеалы прошлого. А непокорную старуху сестру он загоняет на второй этаж, и она в знак протеста запирается в спальне, отказываясь что-либо делать по дому. Домашняя ссора с «политическим» оттенком - оба говорят о свободе и ссылаются на конституцию Америки - затягивается. Родственникам и друзьям не удаётся помирить стариков, об их ссоре узнают все соседи и начинают давать советы, как поступить. Война разгорается: чтобы запугать Салли, Джеймс подвешивает перед её дверью ружье, правда незаряженное. Она же устраивает опасную ловушку, укрепив над своей дверью ящик с яблоками, чтобы он свалился на голову братцу, если тот вздумает войти к ней.
От нечего делать Салли начинает читать попавшую ей в руки книжку «Контрабандисты с Утёса Погибших Душ». Это боевик с интеллектуальной подкладкой о соперничестве двух шаек контрабандистов, занимающихся торговлей наркотиками. «Больная книга, больная и порочная, как жизнь в сегодняшней Америке» - так гласит рекламная аннотация, будто выражая суть того мира, который не приемлет Джеймс и от которого некуда спрятаться, даже если уничтожен телевизор. Две действительности как бы сходятся вместе - в одной люди живут обычными трудами, радостями, тревогами, общаются с природой, верят в «природную магию, в битву духа против тяжести материи», носят с собой череп гремучей змеи от нечистой силы; в другой - безумной действительности урбанизированной Америки - разгорается неистовая конкурентная борьба, и люди одержимы идеей наживы, сумасшедшими желаниями, иллюзиями и страхом. Таким образом, два романа и два способа изображения отражают два жизненных уклада современной Америки.
Во главе одной из шаек, у которой налажена переправка марихуаны из Мексики в Сан-Франциско, стоит капитан Кулак - циник и философ, рассуждающий о свободе и власти. Это своего рода идеолог мира наживы. Другие члены его шайки - «человечество в миниатюре» - представляют разные типы современного сознания: мистер Нуль - технократ, несостоявшийся Эдисон, воображающий, что изобретатель может переделать весь мир. Нерассуждающий мистер Ангел воплощает здоровое физическое начало - он не раздумывая бросается в воду спасать пытающегося покончить жизнь самоубийством разочарованного интеллектуала Питера Вагнера, который поневоле становится членом их экипажа. Джейн символизирует раскрепощённую современную женщину, свободную выбирать себе мужчин по вкусу. Контрабандисты встречаются с поставщиками марихуаны среди океана на пустынном острове под названием «Утёс Погибших Душ». Именно там их настигают соперники - экипаж катера «Воинственный».
Жестокость, столкновение характеров, нетерпимость - вот законы жизни в преступной среде, но именно эти черты проявляются и в сельской глуши, нарушая спокойное течение семейной жизни, приводя к драме. Джеймс отличался нетерпимостью не только к телевидению, снегоходам и прочим атрибутам современности, но и к собственным детям - он затравил и довёл до самоубийства своего сына Ричарда, которого считал «слабаком» и шпынял по поводу и без повода. В конце романа он прозревает, понимая, что телевизор и снегоход не самые страшные враги человека. Страшнее психологическая и нравственная слепота. Воспоминания о сыне и ссора с Салли заставляют старого фермера иначе взглянуть на себя самого. Он всегда старался жить по совести, но не заметил, что его правила превратились в мёртвые догмы, за которыми Джеймс уже не различал живых людей. Он уверовал в свою правоту и оказался глух к правоте других. Он вспоминает покойную жену и сына и понимает, что при всех своих слабостях это были честные, хорошие люди, а он прожил жизнь и главного в них не заметил, потому что «имел понятия узкие и мелочные».
Джеймс навещает в больнице умирающего друга Эда Томаса, тот сожалеет, что не увидит больше раннюю весну, когда вскрываются реки и оттаивает земля. Именно так должно оттаять человеческое сердце для понимания другого сердца. В этом путь спасения человека, страны, человечества, наконец. Вот нравственный закон, который должен победить другие законы, определившие, увы, историю Америки и определяющие её жизнь сегодня, - «воинственность - закон человеческой природы», как его не без сожаления формулирует Томас Джефферсон в эпиграфе ко всему роману. В этом контексте следует воспринимать и слова другого свидетеля рождения американского государства, взятые эпиграфом к первой главе и звучащие как приговор всей орущей, стреляющей, наркотизированной и стандартизированной американской цивилизации (которую так не любили великие английские сатирики Ивлин Во и Олдос Хаксли): «Я присутствовал во дворе Конгресса, когда была зачитана Декларация независимости. Из людей порядочных при этом почти никого не было. Чарльз Биддл, 1776».
Джон Гарднер
Осенний свет
Посвящается моему отцу
Что касается последних новостей, то создается впечатление, что европейские варвары вновь собираются истреблять друг друга. Русско-турецкая война напоминает схватку между коршуном и змеей: кто бы кого ни уничтожил, одним разрушителем в мире станет меньше. Как видно, воинственность – закон человеческой природы, одно из препятствий на пути к слишком бурному размножению, заложенному в механизме Вселенной. Петухи на птичьем дворе убивают друг друга, медведи, быки и бараны поступают точно так же, а конь в табуне на приволье норовит забить копытами насмерть всех молодых соперников, покуда, обессиленный драками и годами, сам не становится жертвой какого-нибудь жеребца.
Я надеюсь, мы докажем, сколь благотворен для людей путь квакеров и что жизнь кормильца исполнена большего достоинства, нежели жизнь воителя. Некоторым утешением может служить то, что истребление безумцев в одной части света способствует росту благосостояния в других его частях. Пусть это будет нашей заботой и давайте доить корову, пока русские держат ее за рога, а турки за хвост.
Возмущение патриота. Старуха находит у кровати негодную книжонку
Я присутствовал во дворе конгресса, когда была зачитана Декларация независимости. Из людей порядочных при этом почти никого не было.
Чарльз Биддл, 1776
– Порок? Про порок лучше я тебе скажу, малыш! – Старик, глядя в огонь, прямо весь трясся от негодования и с такой силой прикусил черенок трубки, что она громко треснула, будто полено в камине. И ясно было по его лицу, когда он вынул ее изо рта и стал разглядывать, что ущерб нанесен непоправимый. В доме было почти совсем темно. Он не зажигал света. Отчасти по бедности, отчасти из-за прирожденной неискоренимой скаредности. Как все у них там на горе Искателей – да и повсюду от Массачусетса и до самой до Канады, – он жил, если правду сказать, далеко не на широкую ногу. В этом мире, на его взгляд, мало за что стоило выкладывать денежки. А то бы телевизор у него за спиной, может, и не зиял чернотой в полутьме, точно дырка на месте выбитого переднего зуба. Три недели назад он пальнул по нему из дробовика – не будет больше скалиться да лезть с дурацкими рекламами и, что самое подлое, играть на человеческой алчности, выставлять напоказ все мерзости ада: визжащих женщин – подавай им холодильники, автомобили, норковые шубы, шляпы со страусовыми перьями; и разные дурацкие церемонии, – щерятся бессовестно от уха до уха, да как они там ни улыбайся, все равно они зараза на земле и распалители вожделений, и телепередачи эти – богохульство и государственная измена. И бесконечные спектакли дурацкие, что они показывают, тоже не лучше: одно непотребство да насилие и уж точно надругательство над здравым смыслом. Словом, зарядил он свой дробовик, как раз когда старуха, его сестра, сидела таращилась на мерцающий свет – нос длинный, подбородок отвис, сзади по стене черные тени пляшут, – и прямо без предупреждения шарахнул дробью по экрану, разнес к черту: откуда взялся, туда ему и дорога.
Могло бы бедой кончиться. Старуха подпрыгнула чуть не до потолка и повалилась замертво, посинела вся, он ее битый час ледяной водой приводил в чувство. И хоть был телевизор старухин, его спесивой сестрицы, что поселилась у него, когда извела собственные деньги, но у нее не хватило храбрости – или дури – купить новый. Заговаривать она об этом раза два-три заговаривала и подруги ее, те тоже, когда заезжали в гости, сороки трескучие, глаза горят, будто лампочку внутри зажгли, – но дальше намеков никто идти не отваживался. У него дикие взгляды, крапивный норов, ядовитее, чем у пчел его окаянных, ему место в сумасшедшем доме, под замком, – так сказала ему сестра, вся дрожа, будто осиновый лист. Но он-то знал ее с рождения, эта дрожь – одно притворство. Он ее сразу предупредил, когда она только переехала: хочет смотреть телевизор, путь устраивается с ним в сарае, рядом с трактором.
А вообще-то он был к ней великодушен, по крайней мере он так считал. Согласен был даже прятаться в своей комнате, будто пьяный батрак, когда к ней жалуют в гости подруги: старая Эстелл Паркс, бывшая школьная учительница, она и теперь умеет играть на фортепиано «Все окутал дым» и «Красавицу в голубом»; или Рут Томас, эта пятый десяток работает библиотекаршей. Он на многое пошел ради сестры, только и делал, что ей уступал. Но всему на свете есть предел, и для него такой предел – телевизор. Бог создал мир, чтобы смотреть на него прямо, а не задом наперед, пусти медведя жить в сарай, он и кровать твою займет. Тут двух мнений быть не может, что неправильно, то неправильно. Для пустых голов Сатана найдет работу.
– Разве Бог преподал миру Священный завет по телевизору? – подымал он на смех сестру. – Не-ет, словами пропечатал!
– Может, ты еще скажешь, что мы и слова-то должны читать только высеченные в камне, – возражала старуха.
Язык у нее острый, спору нет. Из нее бы проповедник вышел, а то и конгрессмен, да, по счастью, господь в неизреченной мудрости своей, чтобы отвести беду, почел за благо создать ее женщиной. Брат ей так однажды и сказал, когда она ему проповедовала с телевизорного голоса про Поправку о равных правах. Он прямо поразился, ну, что она такое говорит, хотя и знал по журналам, что есть, которые и правда верят в эту чушь.
– Да ведь женщина, она не совсем даже и человек, – возразил он ей тогда. – Они вон какие слабосильные! Они вон плачут, будто малые дети! – И наморщил лоб, недоумевая, как можно этого не понимать.
Она было решила, что он шутит – а он, видит бог, говорил совершенно всерьез, – и в конце концов он убедился, к вящему своему недоумению, что они словно бы изъясняются на разных языках, все равно что ему с лошадью, например, толковать. Но и она была изумлена не меньше его, она так поразилась его взглядам, что он едва сам в них не усомнился.
Ну хорошо, пусть у него взгляды дикие, пусть глупые, но он придерживался их добрых семь десятков лет (ему исполнялось семьдесят три четвертого июля), и не дождутся, чтобы он теперь от них отказался. Конечно, он не мастер рассуждать, где ему до нее, она кому хочешь голову оттараторит, но кое-что он знает, кое-какие существенные факты, да, да, кое-какие истины... – объяснял он внуку, грозно тыча в него крючковатым, растресканным пальцем, – кое-какие истины, ради которых еще стоит по утрам подниматься с постели. Такое знание в наши дни редкость. Может, он вообще последний человек на земле со своим настоящим, неподдельным собственным мнением.
Старуха, его сестра – ее звали Салли Пейдж Эббот, у нее муж был дантист, поэтому она из себя царицу корчит, – находилась наверху в своей комнате, металась из угла в угол, как тигрица, потому что брат своей рукой ее там запер, чтобы не вредила ребенку дурацкими разговорами. Она, видите ли, считает, что нельзя «отставать от века», верит, например, в электростанции из атомных бомб, раз правительство заявляет, что опасности нет, а отходы они, мол, в конце концов найдут куда девать.
– Кому и знать, как не правительству, верно? – твердила она сердито и обиженно. Она смотрела передачу про реакторы на этих... как их?.. скоростных нейтронах, в которых спасение вселенной.
– Вранье! – сказал он ей тогда. Тут она на него так посмотрела, ну будто он китайский коммунист, не иначе. Но он что знает, то знает, так он ей и ответил с убийственно-ядовитой улыбкой. Налогоплательщик-то он, напомнил он ей. Она в слезы. По ее мнению, так нет худа ни в массовом производстве, ни в росте производительности, ни даже в индустриализации сельского хозяйства. А у него от таких речей шерсть дыбом. Индустриализация сельского хозяйства – от нее вред один, сообщил он ей в самых недвусмысленных выражениях и стукнул по подлокотнику кресла, для ясности. Индустриализация вытесняет из сельского хозяйства тысячи честных мелких фермеров, и они вынуждены наниматься на карандашные фабрики, стоять в очередях за пособием, погрязать в пьянстве. Да гори они вечным огнем, эти магнаты и их тракторы с десятью передачами, и этот черт во плоти Эрл Бутц вместе с ними. Щеки у старика дергались и дрожали, его трясло с головы до ног, точно козла, проглотившего молнию. А она еще верила в городские «торговые центры» (тоже из телевизора понабралась), и в Большой Нью-Йорк, и в амнистию противникам войны, верила даже, что общество виновато, когда какая-нибудь подлая тварь совершает убийство. Просто непроходимая дура, сама призналась, что, видите ли, верит в людей, а ведь восемьдесят лет прожила, могла бы уже понимать, что к чему.
А брат – «именуюсь Джеймс Л. Пейдж», так он обычно представлялся, – не склонен был много рассуждать, разве иногда на городском митинге в Беннингтоне. И свой спор с нею разрешил тем, что, схватив головню из камина, загнал ее наверх – сестра не сестра, все равно – и запер, пусть немного подумает в одиночестве.
Посвящается моему отцу
Что касается последних новостей, то создается впечатление, что европейские варвары вновь собираются истреблять друг друга. Русско-турецкая война напоминает схватку между коршуном и змеей: кто бы кого ни уничтожил, одним разрушителем в мире станет меньше. Как видно, воинственность - закон человеческой природы, одно из препятствий на пути к слишком бурному размножению, заложенному в механизме Вселенной. Петухи на птичьем дворе убивают друг друга, медведи, быки и бараны поступают точно так же, а конь в табуне на приволье норовит забить копытами насмерть всех молодых соперников, покуда, обессиленный драками и годами, сам не становится жертвой какого-нибудь жеребца.
Я надеюсь, мы докажем, сколь благотворен для людей путь квакеров и что жизнь кормильца исполнена большего достоинства, нежели жизнь воителя. Некоторым утешением может служить то, что истребление безумцев в одной части света способствует росту благосостояния в других его частях. Пусть это будет нашей заботой и давайте доить корову, пока русские держат ее за рога, а турки за хвост.
Возмущение патриота. Старуха находит у кровати негодную книжонку
Я присутствовал во дворе конгресса, когда была зачитана Декларация независимости. Из людей порядочных при этом почти никого не было.
Чарльз Биддл, 1776
Порок? Про порок лучше я тебе скажу, малыш! - Старик, глядя в огонь, прямо весь трясся от негодования и с такой силой прикусил черенок трубки, что она громко треснула, будто полено в камине. И ясно было по его лицу, когда он вынул ее изо рта и стал разглядывать, что ущерб нанесен непоправимый. В доме было почти совсем темно. Он не зажигал света. Отчасти по бедности, отчасти из-за прирожденной неискоренимой скаредности. Как все у них там на горе Искателей - да и повсюду от Массачусетса и до самой до Канады, - он жил, если правду сказать, далеко не на широкую ногу. В этом мире, на его взгляд, мало за что стоило выкладывать денежки. А то бы телевизор у него за спиной, может, и не зиял чернотой в полутьме, точно дырка на месте выбитого переднего зуба. Три недели назад он пальнул по нему из дробовика - не будет больше скалиться да лезть с дурацкими рекламами и, что самое подлое, играть на человеческой алчности, выставлять напоказ все мерзости ада: визжащих женщин - подавай им холодильники, автомобили, норковые шубы, шляпы со страусовыми перьями; и разные дурацкие церемонии, - щерятся бессовестно от уха до уха, да как они там ни улыбайся, все равно они зараза на земле и распалители вожделений, и телепередачи эти - богохульство и государственная измена. И бесконечные спектакли дурацкие, что они показывают, тоже не лучше: одно непотребство да насилие и уж точно надругательство над здравым смыслом. Словом, зарядил он свой дробовик, как раз когда старуха, его сестра, сидела таращилась на мерцающий свет - нос длинный, подбородок отвис, сзади по стене черные тени пляшут, - и прямо без предупреждения шарахнул дробью по экрану, разнес к черту: откуда взялся, туда ему и дорога.
Могло бы бедой кончиться. Старуха подпрыгнула чуть не до потолка и повалилась замертво, посинела вся, он ее битый час ледяной водой приводил в чувство. И хоть был телевизор старухин, его спесивой сестрицы, что поселилась у него, когда извела собственные деньги, но у нее не хватило храбрости - или дури - купить новый. Заговаривать она об этом раза два-три заговаривала и подруги ее, те тоже, когда заезжали в гости, сороки трескучие, глаза горят, будто лампочку внутри зажгли, - но дальше намеков никто идти не отваживался. У него дикие взгляды, крапивный норов, ядовитее, чем у пчел его окаянных, ему место в сумасшедшем доме, под замком, - так сказала ему сестра, вся дрожа, будто осиновый лист. Но он-то знал ее с рождения, эта дрожь - одно притворство. Он ее сразу предупредил, когда она только переехала: хочет смотреть телевизор, путь устраивается с ним в сарае, рядом с трактором.
А вообще-то он был к ней великодушен, по крайней мере он так считал. Согласен был даже прятаться в своей комнате, будто пьяный батрак, когда к ней жалуют в гости подруги: старая Эстелл Паркс, бывшая школьная учительница, она и теперь умеет играть на фортепиано «Все окутал дым» и «Красавицу в голубом»; или Рут Томас, эта пятый десяток работает библиотекаршей. Он на многое пошел ради сестры, только и делал, что ей уступал. Но всему на свете есть предел, и для него такой предел - телевизор. Бог создал мир, чтобы смотреть на него прямо, а не задом наперед, пусти медведя жить в сарай, он и кровать твою займет. Тут двух мнений быть не может, что неправильно, то неправильно. Для пустых голов Сатана найдет работу.
Разве Бог преподал миру Священный завет по телевизору? - подымал он на смех сестру. - Не-ет, словами пропечатал!
Может, ты еще скажешь, что мы и слова-то должны читать только высеченные в камне, - возражала старуха.
Язык у нее острый, спору нет. Из нее бы проповедник вышел, а то и конгрессмен, да, по счастью, господь в неизреченной мудрости своей, чтобы отвести беду, почел за благо создать ее женщиной. Брат ей так однажды и сказал, когда она ему проповедовала с телевизорного голоса про Поправку о равных правах. Он прямо поразился, ну, что она такое говорит, хотя и знал по журналам, что есть, которые и правда верят в эту чушь.
Да ведь женщина, она не совсем даже и человек, - возразил он ей тогда. - Они вон какие слабосильные! Они вон плачут, будто малые дети! - И наморщил лоб, недоумевая, как можно этого не понимать.
Она было решила, что он шутит - а он, видит бог, говорил совершенно всерьез, - и в конце концов он убедился, к вящему своему недоумению, что они словно бы изъясняются на разных языках, все равно что ему с лошадью, например, толковать. Но и она была изумлена не меньше его, она так поразилась его взглядам, что он едва сам в них не усомнился.
Ну хорошо, пусть у него взгляды дикие, пусть глупые, но он придерживался их добрых семь десятков лет (ему исполнялось семьдесят три четвертого июля), и не дождутся, чтобы он теперь от них отказался. Конечно, он не мастер рассуждать, где ему до нее, она кому хочешь голову оттараторит, но кое-что он знает, кое-какие существенные факты, да, да, кое-какие истины... - объяснял он внуку, грозно тыча в него крючковатым, растресканным пальцем, - кое-какие истины, ради которых еще стоит по утрам подниматься с постели. Такое знание в наши дни редкость. Может, он вообще последний человек на земле со своим настоящим, неподдельным собственным мнением.
Старуха, его сестра - ее звали Салли Пейдж Эббот, у нее муж был дантист, поэтому она из себя царицу корчит, - находилась наверху в своей комнате, металась из угла в угол, как тигрица, потому что брат своей рукой ее там запер, чтобы не вредила ребенку дурацкими разговорами. Она, видите ли, считает, что нельзя «отставать от века», верит, например, в электростанции из атомных бомб, раз правительство заявляет, что опасности нет, а отходы они, мол, в конце концов найдут куда девать.
Кому и знать, как не правительству, верно? - твердила она сердито и обиженно. Она смотрела передачу про реакторы на этих... как их?.. скоростных нейтронах, в которых спасение вселенной.
Вранье! - сказал он ей тогда. Тут она на него так посмотрела, ну будто он китайский коммунист, не иначе. Но он что знает, то знает, так он ей и ответил с убийственно-ядовитой улыбкой. Налогоплательщик-то он, напомнил он ей. Она в слезы. По ее мнению, так нет худа ни в массовом производстве, ни в росте производительности, ни даже в индустриализации сельского хозяйства. А у него от таких речей шерсть дыбом. Индустриализация сельского хозяйства - от нее вред один, сообщил он ей в самых недвусмысленных выражениях и стукнул по подлокотнику кресла, для ясности. Индустриализация вытесняет из сельского хозяйства тысячи честных мелких фермеров, и они вынуждены наниматься на карандашные фабрики, стоять в очередях за пособием, погрязать в пьянстве. Да гори они вечным огнем, эти магнаты и их тракторы с десятью передачами, и этот черт во плоти Эрл Бутц вместе с ними. Щеки у старика дергались и дрожали, его трясло с головы до ног, точно козла, проглотившего молнию. А она еще верила в городские «торговые центры» (тоже из телевизора понабралась), и в Большой Нью-Йорк, и в амнистию противникам войны, верила даже, что общество виновато, когда какая-нибудь подлая тварь совершает убийство. Просто непроходимая дура, сама призналась, что, видите ли, верит в людей, а ведь восемьдесят лет прожила, могла бы уже понимать, что к чему.
Джон Гарднер
Осенний свет
Посвящается моему отцу
Что касается последних новостей, то создается впечатление, что европейские варвары вновь собираются истреблять друг друга. Русско-турецкая война напоминает схватку между коршуном и змеей: кто бы кого ни уничтожил, одним разрушителем в мире станет меньше. Как видно, воинственность – закон человеческой природы, одно из препятствий на пути к слишком бурному размножению, заложенному в механизме Вселенной. Петухи на птичьем дворе убивают друг друга, медведи, быки и бараны поступают точно так же, а конь в табуне на приволье норовит забить копытами насмерть всех молодых соперников, покуда, обессиленный драками и годами, сам не становится жертвой какого-нибудь жеребца.
Я надеюсь, мы докажем, сколь благотворен для людей путь квакеров и что жизнь кормильца исполнена большего достоинства, нежели жизнь воителя. Некоторым утешением может служить то, что истребление безумцев в одной части света способствует росту благосостояния в других его частях. Пусть это будет нашей заботой и давайте доить корову, пока русские держат ее за рога, а турки за хвост.
Возмущение патриота. Старуха находит у кровати негодную книжонку
Я присутствовал во дворе конгресса, когда была зачитана Декларация независимости. Из людей порядочных при этом почти никого не было.
Чарльз Биддл, 1776
– Порок? Про порок лучше я тебе скажу, малыш! – Старик, глядя в огонь, прямо весь трясся от негодования и с такой силой прикусил черенок трубки, что она громко треснула, будто полено в камине. И ясно было по его лицу, когда он вынул ее изо рта и стал разглядывать, что ущерб нанесен непоправимый. В доме было почти совсем темно. Он не зажигал света. Отчасти по бедности, отчасти из-за прирожденной неискоренимой скаредности. Как все у них там на горе Искателей – да и повсюду от Массачусетса и до самой до Канады, – он жил, если правду сказать, далеко не на широкую ногу. В этом мире, на его взгляд, мало за что стоило выкладывать денежки. А то бы телевизор у него за спиной, может, и не зиял чернотой в полутьме, точно дырка на месте выбитого переднего зуба. Три недели назад он пальнул по нему из дробовика – не будет больше скалиться да лезть с дурацкими рекламами и, что самое подлое, играть на человеческой алчности, выставлять напоказ все мерзости ада: визжащих женщин – подавай им холодильники, автомобили, норковые шубы, шляпы со страусовыми перьями; и разные дурацкие церемонии, – щерятся бессовестно от уха до уха, да как они там ни улыбайся, все равно они зараза на земле и распалители вожделений, и телепередачи эти – богохульство и государственная измена. И бесконечные спектакли дурацкие, что они показывают, тоже не лучше: одно непотребство да насилие и уж точно надругательство над здравым смыслом. Словом, зарядил он свой дробовик, как раз когда старуха, его сестра, сидела таращилась на мерцающий свет – нос длинный, подбородок отвис, сзади по стене черные тени пляшут, – и прямо без предупреждения шарахнул дробью по экрану, разнес к черту: откуда взялся, туда ему и дорога.
Могло бы бедой кончиться. Старуха подпрыгнула чуть не до потолка и повалилась замертво, посинела вся, он ее битый час ледяной водой приводил в чувство. И хоть был телевизор старухин, его спесивой сестрицы, что поселилась у него, когда извела собственные деньги, но у нее не хватило храбрости – или дури – купить новый. Заговаривать она об этом раза два-три заговаривала и подруги ее, те тоже, когда заезжали в гости, сороки трескучие, глаза горят, будто лампочку внутри зажгли, – но дальше намеков никто идти не отваживался. У него дикие взгляды, крапивный норов, ядовитее, чем у пчел его окаянных, ему место в сумасшедшем доме, под замком, – так сказала ему сестра, вся дрожа, будто осиновый лист. Но он-то знал ее с рождения, эта дрожь – одно притворство. Он ее сразу предупредил, когда она только переехала: хочет смотреть телевизор, путь устраивается с ним в сарае, рядом с трактором.
А вообще-то он был к ней великодушен, по крайней мере он так считал. Согласен был даже прятаться в своей комнате, будто пьяный батрак, когда к ней жалуют в гости подруги: старая Эстелл Паркс, бывшая школьная учительница, она и теперь умеет играть на фортепиано «Все окутал дым» и «Красавицу в голубом»; или Рут Томас, эта пятый десяток работает библиотекаршей. Он на многое пошел ради сестры, только и делал, что ей уступал. Но всему на свете есть предел, и для него такой предел – телевизор. Бог создал мир, чтобы смотреть на него прямо, а не задом наперед, пусти медведя жить в сарай, он и кровать твою займет. Тут двух мнений быть не может, что неправильно, то неправильно. Для пустых голов Сатана найдет работу.
– Разве Бог преподал миру Священный завет по телевизору? – подымал он на смех сестру. – Не-ет, словами пропечатал!
– Может, ты еще скажешь, что мы и слова-то должны читать только высеченные в камне, – возражала старуха.
Язык у нее острый, спору нет. Из нее бы проповедник вышел, а то и конгрессмен, да, по счастью, господь в неизреченной мудрости своей, чтобы отвести беду, почел за благо создать ее женщиной. Брат ей так однажды и сказал, когда она ему проповедовала с телевизорного голоса про Поправку о равных правах. Он прямо поразился, ну, что она такое говорит, хотя и знал по журналам, что есть, которые и правда верят в эту чушь.
– Да ведь женщина, она не совсем даже и человек, – возразил он ей тогда. – Они вон какие слабосильные! Они вон плачут, будто малые дети! – И наморщил лоб, недоумевая, как можно этого не понимать.
Она было решила, что он шутит – а он, видит бог, говорил совершенно всерьез, – и в конце концов он убедился, к вящему своему недоумению, что они словно бы изъясняются на разных языках, все равно что ему с лошадью, например, толковать. Но и она была изумлена не меньше его, она так поразилась его взглядам, что он едва сам в них не усомнился.
Ну хорошо, пусть у него взгляды дикие, пусть глупые, но он придерживался их добрых семь десятков лет (ему исполнялось семьдесят три четвертого июля), и не дождутся, чтобы он теперь от них отказался. Конечно, он не мастер рассуждать, где ему до нее, она кому хочешь голову оттараторит, но кое-что он знает, кое-какие существенные факты, да, да, кое-какие истины... – объяснял он внуку, грозно тыча в него крючковатым, растресканным пальцем, – кое-какие истины, ради которых еще стоит по утрам подниматься с постели. Такое знание в наши дни редкость. Может, он вообще последний человек на земле со своим настоящим, неподдельным собственным мнением.