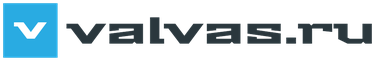А.Л. Доброхотов
«История античной эстетики» в контексте эпохи
- Как известно, « История античной эстетики » Алексея Федоровича Лосева стала большим событием для наших философских наук второй половины XX века, повлиявшим далеко не только на эстетическую мысль. Так ли это, и в чем, с Вашей точки зрения, источник такого влияния?
Так и есть. Восьмитомная «История античной эстетики » (далее - ИАЭ) создавалась и выходила в течение 30 лет (1963 -1994), захватив оттепель, застой и перестройку, да она и сама по себе оказалась целой эпохой. Собственно, это была не только и не столько история эстетики, сколько грандиозная панорама античной культуры. Осью этого построения была античная философия (хотя отделить философское от эстетического в античности почти невозможно). А методом автора была его оригинальная диалектическая философия культуры. Я думаю, ИАЭ сейчас есть смысл прочитать с точки зрения его общей теории культуры, потому что отдельные его работы по истории культуры исследованы неплохо. У Лосева также есть работы по филологии, лингвистике и философии истории, в которых прису тствует тема культуры. Но иногда за этой яркой и насыщенной невероятным количеством фактов и полемических экскурсов научной литературой не видна его философия культуры. Между тем она не сводится ни к привычным западным моделям, ни к тому, что мы знаем о Серебряном веке, хотя, конечно, Лосеву достаточно близки Флоренский, Вяч. Иванов, Франк, Бердяев. И не случайно первой областью применения метода, обдуманного и выстраданного в опыте 20-х, 30-х гг., становится античная эстетика: это был а естественная, родная для автора и интересная для его современников общая «территория». Для 60-х и 70-х «тоска по мировой культуре» делала интерес к античности почти обязательным. Именно в этом облачении и пришла к современникам лосевская альтернативная культурфилософия. Образованным читателям было понятно, что , несмотря на спорадическое использование марксистской лексики, автор пришел «из другой вселенной», и для них значительным переживанием был сам тот факт, что их современник и соотечественник открыл окно в Иной Мир, более интересный и увлекательный, чем казенные поучения о заблуждениях мыслителей прошлого, которые чего-то не поняли и до чего-то не доросли.
- Но все же это была именно история эстетики. Интересно, в каких отношениях были работы А.Ф. Лосева, связанные с эстетикой и культу рой, с исследованиями современников?
Идейный ландшафт того времени был совсем непростым. Границы дозволенного расширились, а эстетика к тому же была очень удобной нишей для независимого гуманитарного мышления. Можно попытаться отметить в «силовом поле» тогдашней культуры основные эстетические течения. Во-первых, какие-то излучения шли из 20-х, когда расцвела целая система новаторских институций типа ГАХНа, задачей которых было построение новой философии искусства. Что-то у них было напрямую связано с идеологией, а что-то только «рифмовалось» с ней, а по сути соотносилось с новейшими конструкциями западной формальной эстетики. Несмотря на краткие сроки, отпущенные им режимом, их наработки были заряжены такой энергией, что при первой возможности , явно или - чаще - неявно , вернулись в культуру. Во-вторых, была непрерывная традиция «авторского» истолкования марксизма, в той или иной степени связанная с эстетической теорией: М.А. Лифшиц, Д. Лукач, М.Ф. Овсянников, В.С. Библер, М.С. Каган, Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили и др. Для большинства этих теоретиков «средним термином» между марксизмом и классической философией был Гегель. Здесь уже нельзя говорить о «нише», поскольку мыслители искренне работали в марксистской парадигме, что, впрочем, было еще рискованней, чем идеологические декорации. (Ближе к Юпитеру - ближе к молнии.) Благодаря им - ученым и педагогам - в 60- е гг. появились сектора и кафедры, инкорпорировавшие эстетику в научные и образовательные институты, а также соответствующие «ячейки» в издательском мире. В-третьих, были мыслители, которые чудом выжили и вернулись из забвения. Пожалуй, я смогу назвать только двух и очень разных: А.Ф. Лосева и М.М. Бахтина . В -четвертых, возник феномен сам по себе ставший «Res publica litterarum»: московско-тартуская школа семиотики с ее многосторонним и колоссальным влиянием. В-пятых, существовала устойчивая тенденция возвращения «к истокам» национальной культуры, к возрождению и реинтерпретации традиции, которая в случае с русской культурой естественно приводила к первичным эстетическим кодам культуры и, как ни парадоксально, к расширению мировых контекстов национальной культуры. В качестве примера можно назвать эволюцию исследований В.В. Бычкова с диапазоном от патристики до авангарда или М.Н. Громова с диапазоном от монастырской архитектуры до Канта. В-шестых, надо отдельно отметить ту интенсивную работу, которая велась в доменах, опосредованно связанных с эстетикой: иногда больше как искусствоведение; иногда меньше как точные и естественные науки. Объединяющим здесь было желание найти новый язык описания и понимания эстетического. Показательный пример - творческая эволюция Б.В. Раушенбаха от проблемы у правлени я ориентацией космических аппаратов до темы пространственных построений в живописи. Или движение Вяч. Вс. Иванова от лингвистики к широкой сфере нетривиальных связей антропологии, нейрофизиологии, семиотики и эстетики. Это то, что вспомнилось ad hoc , но и сказанного достаточно, чтобы представить насыщенность и напряженность поля, в котором существовала эстетическая мысль.
- Как бы Вы разместили в этом поле эстетику А.Ф. Лосева. Было ли это формой ухода от социальной действительности ? Или же это была форма диалога с ней?
Определенно это не было эскапизмом. Эстетика с самого начала была и темой, и выразительной формой мышления Лосева. Его путь к ИАЭ подробно описан А.А. Тахо-Годи , и мы видим, что уже для раннего Лосева понять культуру - значило расшифровать ее художественно-выразительные энергии. В 20-е гг. Лосев активно работал в Государственной Академии художественных наук (РАХН, а позже - ГАХН), в Государственном институте музыкальной науки (ГИМН), делая множество докладов. Был профессором Московской консерватории, где читал курс «История эстетических учений ». В 30-е работал над рукописью «История эстетики ». (Не стоит забывать и то, что он - автор яркой интеллектуальной прозы, сравнительно недавно извлеченной из забытья усилиями Е.А. Тахо-Годи.) Но, возможно, важнее всего его знаменитое «восьмикнижие » 20-х гг., в котором дана изощренная, неоплатоническая в своей основе иерархия и диалектика форм выражения Первоединого на разных уровнях инобытия. Эстетика была в этих книгах глубинно обоснована онтологией. И когда в 1963 г. начинают выходить тома ИАЭ, а затем и книги о других эстетических эпохах (например , «Эстетика Возрождения»), они уже обеспечены мощным философским ресурсом 20-х.
- Внутренняя логика творчества Лосева понятна. Но как ИАЭ вписывалась в дух времени?
- Далеко не бесконфликтно. Лосев был воинственным мыслителем и нередко встречал такую же активную реакцию. (В свое время он дерзко бросал вызов куда более страшным врагам, чем вялая тирания 60-х, и дорого за это платил.) Дело осложнялось еще и тем, что его метод морфологического, «физиогномического» портретирования эпох и культурных типов, в чем-то перекликающийся со шпенглеровским, предполагал вживание и изображение изнутри предмета интерпретации. Именно эстетическая выразительность этого метода позволяла иногда критикам слишком поспешно отождествить Лосева-автора и его экспериментальное «я», от лица которого он описывал облик той или иной культуры. (Хотя надо сказать и то, что разделить эти субъектности совсем непросто.) Важная черта лосевского стиля - стремление пройти путь имманентной культурной логики до конца и выявить все возможные следствия. Это и приводило с неизбежностью к культур-критике: иногда жесткой, иногда достаточно деликатной. Пример последней - полемика со структуралистами тартуских «Трудов по знаковым системам» в статье 1978 г. «Терминологическая многозначность…» . Лосев борется здесь со сведением культурных явлений к формальным знаковым системам, что приводит к «асемантизму», к превращению культуры в бессмысленный конгломерат пустых знаков. Здесь не важно, насколько Лосев прав в своей критике (вряд ли его оппоненты заслужили такие упреки), но важно то, что , с его точки зрения , за «асемантизмом» следует власть безличной формы с ее ценностным нигилизмом, и на этот вызов он считал себя обязанным ответить (хотя бы сдержанно, чтобы власти не могли воспользоваться его критикой как поводом для очередного погрома).
- Если эстетика Лосева была по сути герменевтикой культуры, то в чем ее метод?
Мы не найдем теоретического манифеста его методологии (хотя многое можно извлечь из «Диалектики художественной формы » и «Очерков античного символизма и мифологии »). Тем не менее этот метод на практике четко и конкретно очерчен и присутствует во всех трудах Лосева. Это - неоплатоническая диалектика, прочитанная сквозь оптику патристики. В применении к культуре это убеждение в том, что вся мировая культура есть закономерно раскрывающаяся целостность. В каком-то смысле это принципиально антишпенглеровский подход, поскольку предполагает исходное смысловое единство и связь всех форм культуры. Лосев считал, что Шпенглер научился гениально рисовать уникальное «дерево» той или иной культуры и замечать во всех ее деталях общие морфологические черты. Но он критиковал Шпенглера за то, что тот не может представить ряд культур как жизнь единого всечеловеческого организма с трансце ндентальной связью всех его основ. Он был уверен, что надо соединить физиогномику отдельных культур Шпенглера и диалектическую философию истории Гегеля. Для Лосева всегда существовал абсолютный контекст, в котором происходит движение от одной культуры к другой, своего рода вертикаль, по которой идет восхождение к абсолюту, точнее - к «абсолютной Личности». Но в то же время есть горизонталь эмпирической истории, в которой любой феномен всегда индивидуально-конкретен. Соответственно, метод у Лосева двойственный: он, с одной стороны, осуществляет анализ больших исторических контекстов, а с другой - переходит к детальному, научно выверенному описанию локальных феноменов. Он сам это называл по-гегелевски методом соединения всеобщего, особенного и единичного.
- А где здесь эстетика?
Эстетика в узком смысле слова - это только часть интересующей его предметности. Чтобы понять лосевскую своеобразную панэстетичность, надо обратить внимание на основы его символизма. Только символизм, по Лосеву, спасает от противоречий, в которых запуталась западноевропейская культура. Символизм признает существование источника явлений, но источника неисчерпываемого и несводимого ни к каким явлениям (апофатизм), и утверждает, что этот отличный от своих явлений источник в них все же различными способами проявляется. Если мы разорвем символизм (являемость) и апофатизм (сокрытость), то получим или агностицизм, или позитивизм. То есть бытие надо понимать как недоступный, но явленный смысл, а эстетику - как науку и искусство прочтения этой явленности. Все, таким образом, оказывается эстетикой.
Лучше всего об этом сказано даже не в эстетических работах Лосева, а в «Философия имени», где дана строгая последовательность оформлений смысла. Там Лосев дает яркую формулировку символизма, которую лучше процитировать буквально: «Только символизм спасает явление от субъективистического иллюзионизма и от слепого обожествления материи, утверждая тем не менее его онтологическую реальность, и только апофатизм спасает являющуюся сущность от агностического негативизма и от рационалистически-метафизического дуализма, утверждая тем не менее ее универсальную значимость и несводимую ни на что реальную стихию» . То есть апофатический символизм сохраняет и сущность и явление, но обязывает нас, если так можно сказать, быть субъектами бесконечной эстетической интерпретации. Также у Лосева очень важен концепт «мифа », т.е. символа, доросшего до статуса «магического имени» (до статуса жизненной практики) и развернувшегося в культурно-историческое событие. Другими словами, символизм предлагает два центральных способа понимания явления: это то, что платоники называют эйдос , то есть лицо, лик, прочерченный индивидуальный образ явления; и логос , то есть умственная формула, которая дает сущность объекта. Лосев, как истинный платоник, соединяет логос и эйдос в одну точку, и получается конкретно явленная логическая формула, у которой есть портретный облик. В культуре это проявляется как личность, реализующая смыслы. Эта личность может достигнуть уровней, которые перерастают в историческую судьбу личности: это Лосев называл словом «миф».
- Выходит, что философию культуры Лосева можно назвать «мифотворчеством»?
Ну, в каком-то смысле… Лосев так и видел культуру. Миф - это способ рассказать о культуре, показать, как эмпирические личности, а может быть, и какие-то воплощенные идеи создают некоторое поле, своего рода театральную сцену, на которой происходят исторические события. Миф - это сущность личности, развернутая в исторической судьбе в конкретных обстоятельствах. С этим связано и такое ключевое лосевское понятие, как «доминирующий первопринцип» культуры. Лосев утверждает, что типология культур подчинена некоему интегральному принципу, исходя из которого можно описать и общее, и все филиации единичного в отдельной культуре.
- Это вроде бы похоже на прафеномен Шпенглера…
В том-то и дело, что это не феномен, а принцип. Первоэйдос, а не первоэйкон. Принцип должен существовать в мире (в сообществе) принципов и как таковой требует выхода из измерения культуры в иное, к более высокой степени общности. Поэтому у Лосева так интересны (почти как у Плутарха) сравнительные исторические портреты: они позволяют сопоставлять принципы, видеть неочевидную близость и неочевидные конфликты. (Пример: культурологически-виртуозный анализ противоположности и скрытой близнечности Шопенгауэра и Гегеля .)
- Но тогда Лосев все же разделяет со Шпенглером какой-то детерминизм, предопределенность явления культуры ее «первопринципом» .
Этот вопрос возник не только у Вас. Об этом пишет, например, С.С. Аверинцев , который находит у Лосева «императив абсолютной жесткости связей между смыслом и формой» и даже элементы тоталитарного стиля. Но ведь именно этой «абсолютной жесткости» и не было в учении Лосева. Этот тип культурно‑исторического детерминизма возник в ходе попыток Просвещения превратить метафизику в науку, но в то время - время борьбы с христианским провиденциализмом - он не мог раскрыться в полной мере. Признание случайности, живой историзм, культ моральной ответственности - все это давало Просвещению иммунитет от превращения истории в царство «демона» Лапласа. Настоящий исторический детерминизм возникает в XIX веке, а завершает свое развитие в витализме Шпенглера и в тоталитарной идеологии. Именно с этой тенденцией Лосев и борется, отыскивая ее прецеденты в прошлом. В частности , на страницах ИАЭ и особо темпераментно в «Диалектике мифа». Сам он наследует диалектику Платона и Гегеля: «открытую систему», которая предполагает недетерминированное включение человека в божественные замыслы. Аверинцев верно отмечает «гегелевско‑шеллинговскую выучку» Лосева, но напрасно ставит ее в один ряд со шпенглерианством. Лосевская философия культуры - это довольно сложное, но весьма ангажированное реальной историей учение о путях символической коммуникации божественного и человеческого, нетварного и тварного. Как я уже говорил, для лосевского символизма обязательной является выраженность сущности, ее эстетическая феноменализация. Поэтому явление всегда служит симптомом и уликой для тех, кто ищет скрыт ые «послания». Но сама сущность не может быть ни симптомом, ни прафеноменом. Она, по Лосеву, есть нередуцируемая реальность и предполагает личностную интерпретацию всего предданного свободному сознанию. Мне кажется, что именно эти идеи Лосева не стоит сейчас сдавать в архив истории философии.
Александр Львович Доброхотов – зав. кафедрой истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ, выпускник этого факультета, автор некоторых книг, в частности о Данте. В разное время читал в Университете спецкурсы: “Философия русского символизма”, “Телеология культуры”, “Метафизика русской власти” и другие. Необычность лекций Доброхотова заключается в том, что это – вольные размышления, которые порой рождаются прямо на кафедре.
– Александр Львович, я Ваш почитатель еще с первого курса, когда Вы вводили нас в историю философии, и с тех пор ни один из Ваших лекционных циклов не оставлял меня равнодушным. В Ваших лекциях мне запомнился тезис о чередовании сходных культурных эпох. Сейчас – в конце второго тысячелетия – как нам локализовать современную культуру?
– Я имел в виду метафору, использованную Вячеславом Ивановым и отцом Павлом Флоренским, – о смене “дневных” и “ночных” эпох. Мне она понравилась предельной простотой и наглядностью. “Дневные” эпохи – это индивидуализм, антропоцентризм, динамика, экспансия, борьба с природой, примат рационализма, новаторство. “Ночные” – общинность, стабильность, мирное встраивание в природу, примат мифа, традиция и т.п. Типичная “дневная” эпоха – Античность, типичная “ночная” – Средневековье. “Дневные” эпохи в этой предполагаемой исторической цепи тяготеют к родственным “дневным” эпохам прошлого, “ночные” соответственно – к “ночным”: идет как бы борьба союза “детей” и “дедов” против “отцов”.
–Кто же прав в этой борьбе? Или это всего лишь некое колебание исторического маятника?
– Пожалуй, никто. “Дневное” и “ночное” – это ни хорошо, ни плохо, это – чередование альтернативных моделей, в ходе которого идет аккумуляция жизнеспособных форм культуры (и хотя бы поэтому мы скорее имеем дело с поступательным, а не маятниковым типом движения). Наша культурная эпоха (Новое время или Модерн) – конечно, “дневная” или, если уж последовательно эксплуатировать найденную метафору, “вечерняя”: мы еще живем ценностями Модерна, но уже осознаем его исчерпанность и ждем века иного.
– В какой мере можно называть культуру этой эпохи христианской?
– Вопрос этот сложнее, чем может показаться. Если считать культурой объективацию усилий духа, осваивающего природу, то надо сказать, что христианство с самого начала выявилось как сила антикультурная. Культура – это совершенствование мира, создание прекрасных образов (по – гречески: “идолов”), полагание целей для прогресса. Христианство же занято спасением, заботой о невидимом и ожиданием конца мирской реальности…
– Позвольте, тут я с Вами не соглашусь. Познание природы (и себя как части природы) – вполне христианская задача, и когда творчество раскрывает внутреннюю красоту мира, оно, по – моему, и является христианским. Наречение Адамом имен животных – что это, как не творчество и не познание? “Создание прекрасных образов” и, кстати, образов может быть преображением мира.. .
– Да, конечно, существует и “христианская культура”. Но это похоже на украшение тюремной камеры, которую мы превращаем в дом, где можно жить. Однако при этом не исчезает напряженность отношений культуры (в широком смысле слова) и христианства. И по сей день они – как масло и вода – расслаиваются при первой возможности. Тем не менее, все культурные циклы с неизбежностью должны были искать свою формулу соотношения христианства и культуры. В этом отношении культуру Модерна вряд ли можно (в отличие от средневековой) назвать христианской; она скорее – культура гуманизма, то есть антропоцентризма и антропомерности; культура мирской революции против протектората Церкви. Хотя это тоже может рассматриваться как судьба христианской культуры в превращенной форме.
– И эта революция продолжается?
– Гуманистический эксперимент по существу закончился в XX веке и вряд ли стоит считать его полным провалом (такой пафос сейчас моден) – однако его время прошло, и вновь возникает вопрос о возможности собственно христианской культуры и – может быть даже – о необходимости культурной контрреволюции. Однако опыт Нового времени показывает, что попытка вернуться к религиозному патернализму в культуре может привести лишь к обмирщению веры и культа: эти ошибки слишком дорого обошлись европейской цивилизации, и повторять их не стоит.
– Похоже, Вы не разделяете мнение о том, что культура произошла от культа .
– Скорее разделяю, если не понимать это слишком буквально, исторически. Но должна ли при этом культура возвращаться в культ? Их разделение было ведь не только расколом и трагедией, но и приобретением чего – то. Возвращение обречено быть взаимной узурпацией: культура возьмет на себя роль культа, культ же превратится в мирского “цензора”. Но есть ведь и другой путь. Можно рассматривать исторические отношения культуры и культа как драму и раскол, но при этом простодушное желание склеить расколовшееся имеет неявной предпосылкой взгляд на историю как на бессмыслицу. Нельзя ли все же посмотреть на этот раскол как на подарок Промысла? Может быть, в этом умении исторического опыта превращать наказания в дары – один из смыслов истории. Между изгнанием из рая и возвращением в рай лежит путь, который, собственно, и завершает Творение человека.
– Боюсь, что не все “наказания” можно превратить в “дары” .
– Но многие. Вот, например, Сергей Булгаков говорил, что картины Пикассо – это “труп красоты”. Но ведь с другой стороны – натурализм и гуманистический психологизм искусства XIX века умертвили в конечном счете дух, оставив культуре осиротевшую душу и обессмысленную плоть. Авангард же – при всех его грехах – покончил с натурализмом и антропоморфизмом, вернув культуре интерес и чутье к метафизическому измерению.
– Но не к религиозному .
– Метафизика открывает третье – не природное и не человеческое – измерение бытия. В этом “третьем” и обнаруживается вновь пространство для Откровения, которое исчезло в культуре, когда в результате усилий Просвещения природа стала универсумом.
– Не с этим ли “третьим” связан Ваш курс лекций о “метафизике власти в русской культуре”?
– Косвенно, да. Поскольку меня интересовали модусы присутствия метафизического в мире “фактов”, мне захотелось рассмотреть те феномены, которые вроде бы принадлежат природе, но по существу являются метафизическими силами. Например, – богатство, эрос, власть… По аналогии с “трансценденталиями” я обозначил их как “транснатуралии”. Особенно интересным мне показался феномен власти, который в русской культуре выстроился в целый исторический сюжет.
– Вот уж где очевидна русская специфика!
– Да, западная культура власти не просто отличается, но даже контрастирует с российской. Запад с начала Нового времени стремился к демифологизации и рационализации представлений о власти и собственно властных отношений. Конечно, это упростило жизнь, но не избавило общество от проблемы власти: изгнанная в дверь, она влезла в окно. Тоталитарная и леворадикальная мифология с легкостью смели вековые традиции рационализма. Российская же культура никогда не воспринимала власть как нечто “естественное” и пыталась найти ее сверхприродное, то есть метафизическое, обоснование. Может быть сейчас трагический российский опыт ценнее, чем западная прагматика. Поэтому интересно изучать и разгадывать “текст” русской метафизики власти, которая проявлялась и в идеях, и в делах.
– Другими словами, то, что Макс Вебер называл “рационализацией власти”, не подходит для России?
– Похоже на это. “Рационализация” рассматривалась бы как измена чему – то такому в феномене власти, что важнее, чем социальный порядок и эффективное администрирование. Власть интуитивно понималась в России как область проклятия, которое сказывается, и когда мы принимаем власть, и когда от нее отказываемся. В этом основная антиномия власти.
– Как же область проклятия, когда помазание на царство – это таинство и благословение?
– Но помазание потому и необходимо, что это – зона проклятия. Человеку, принимающему власть, необходимо особое благословение, одной “воли народа” явно недостаточно. Необходимость особой “санкции свыше” понималась еще с древнейших времен.
– Еще в Ветхом Завете.. .
– Почитайте “Золотую ветвь” Фрэзера, там тоже это описывается. А у нас вплоть до философов “серебряного века” (в данном контексте – до мыслителей чичеринской школы), эта антиномия не имела теоретического осмысления, и выражалась или косвенно, в культуре, или прямо, в волевом действии.
– Чем Вы это объясняете: традиционным “мысль изреченная есть ложь”?
– Для российской почвы философия – экзотичное и плохо укорененное растение. В течение веков Русь предпочитала миф и образ, вкладывая в них сокровища своей мудрости. Логические (и юридические) конструкции воспринимались как формализм, в лучшем случае служебный, но всегда подозрительный. Поэтому вполне естественно, что литература берет на себя груз метафизики. Скажем, “Бесы” или “Капитанская дочка” дают для понимания метафизики власти больше, чем любой отечественный философский трактат.
– Ну, с “Бесами” более или менее понятно, а вот “Капитанская дочка”.. .
– По сути, здесь Пушкин дает полный набор властных отношений, которые несколько скрыты сюжетом. Это отношения власти семейной: отцы – дети; власти административной: начальник – подчиненный; власти страсти: есть человек, выбирающий традиционный тип отношений, а есть Швабрин, который, с одной стороны, следует любовно – романтической страсти, с другой – восстает против начальства, становится повстанцем. Есть еще власть природы над человеком – это пушкинская “метель”, которая постоянно вмешивается в течение событий. Власть народа: стихия мятежа – ее Пушкин очень подробно рассматривает (он был первым историком, который проводил полевые исследования!). Власть царская – “deus ex mahina “: Пушкин показывает, что ее исключительность состоит в том, что царь может стать над законом, но стать над законом может только он. И, наконец, власть Бога: все остальные типы власти можно взять в скобки, потому что именно эта является здесь стержневой. Даже лексически это у Пушкина заметно, до назойливости – “слава Богу”, “Господи, помилуй” – через каждые три – четыре слова. Ни у кого, даже у Гоголя, такого не найдешь.
– Характерно Ваше даже.. .
– Это, с одной стороны, повесть о смирении, но с другой – о долге, о чести, которая становится спасительной силой в истории. Здесь Пушкин сильно выбивался из своего времени: ведь была эпоха восстаний, революций. Наверное, это звучит скучновато для современного человека, но Бог и честь оказываются спасительной, работающей силой, стоящей над другими типами власти, временными, ситуационными. Конечно, то, что я в такой занудной форме излагаю, Пушкин делает в легкой образной системе.
– Нужны ли тогда теоретические построения?
– Философская рефлексия, осознавая бытие, что – то меняет в нем. Это всегда родственно “метанойе” (покаянию): помыслить значит “образумиться”, “опамятоваться”.
– Да, в случае с “метафизикой власти” это особенно важно .
– Вот именно. Но – возвращаясь к нашей исходной теме соотношения светской и христианской культуры – надо сказать, что первый удар антиномии власти приняла на себя не метафизика, а древняя Церковь. И именно ее парадоксальное решение осмысливала русская философия: бремя власти (и бремя ее греха) принимается как служение, что равносильно отказу от нее как от самоволия, но не как от ответственности. В этом глубинный смысл “симфонии”, но отнюдь не в единодушном сотрудничестве духовной и светской власти, как это порой понимают сегодня.
– Но что это значит практически? Можно ли, исходя из этого, говорить о политическом лице современного христианства?
– Пока мы находимся в Университете как культурном пространстве, для нас практическое совпадает с теоретическим. “Понимать” здесь уже значит “действовать”. “Давайте хорошо мыслить”, – сказал бы Паскаль. На свой лад это повторяется в пространстве Церкви: не отдавать кесарю Богово, не забывая при этом отдавать кесарю кесарево, это уже само по себе – настолько сильная политическая позиция, что “партийность” становится несущественной. Важно только не забывать, что быть христианином в современном мире нельзя, просто используя те ответы на вопрос “Что значит быть христианином сегодня?”, которые с большим трудом давались нашим предкам. Нам тоже еще надо потрудиться.
С Александром Львовичем Доброхотовым
беседовал Владислав Томачинский
“ТД”, №24, 1998
Предназначенные как читателю, так и самому себе.
Иногда говорят, что философия – не школьная наука. Ее-де может постичь только человек, умудренный жизненным опытом и долгими размышлениями. Конечно, ни то, ни другое не помешает. Но, может быть, именно детство и юность – лучшее время для начала. Философия любит спрашивать, для нее вопросы часто оказываются важнее ответов. Но детство и юность спрашивают чаще, чем другие эпохи жизни, а вопросы их бывают острее, фундаментальнее, чем вопросы людей зрелых. Подросток еще не включился в "систему", он зачастую критически относится к миру взрослых, хочет его понять и оценить. Но и здесь его союзник – философия. Он наивен, и философия, в сущности, наивна; он непрактичен, но и философия отвлекается от непосредственной пользы. Он идеалистичен, и философия тоже ищет идеалы. Философия борется с предрассудками, но у юных их еще нет.
Представим себе обычные возражения.
"Слишком рано". Но опыт показывает, что удачные методы снимают эту проблему. В США есть даже Институт по развитию философии для детей с филиалами в 20 странах, который рекомендует вводить уроки философии с 6 лет и разрабатывает методику для детских садов. Вспомним, наконец, историю. В платоновских диалогах слушают мудрецов и вступают с ними в спор совсем юные существа. Так, наверное, и в самом деле было в Академии Платона . Беркли сделал свое основное открытие еще студентом. Программа немецкого идеализма была сформулирована вчерашними школьниками, "зелеными" тюбингенскими студентами, и почти в таком же виде осуществлена ими, но уже – зрелыми мыслителями. Шеллинг становится магистром философии в 17 лет. Гегель читает, и не без успеха, свою головоломную философию нюрнбергским гимназистам. Ницше становится уважаемым профессором в 24 года. Конечно, это скорее исключения, чем правило. Но они говорят, что для страха перед философией нет оснований: дети умеют философствовать, философы умеют учить детей, а иногда даже сами чему-то у них учатся.
"Слишком сложно". Но сложны системы, которые выражены на специальном языке. Начала философствования (то, что важнее всего) просты. Они не требуют специальных знаний. Конечно, это не значит, что они не требуют труда. Бывают вещи, трудные потому, что они сложны. Но некоторые трудны именно потому, что они просты: их нельзя свести к чему-то другому, более понятному, объяснить через что-то иное. Знание делает сложное простым, но что нам делать с простым? Тут-то и начинается философия.
"Философию лучше отложить на потом. Сначала – положительные, бесспорные науки". Но если предлагать вопросы с готовыми решениям, недолго и отучить от азарта поиска. Если не сделать прививку против догм как можно раньше, мы рискуем просто опоздать.
"Философия бесполезна". Но юность интеллектуально бескорыстна. Она знает, какая важная вещь – игра. Значит, и игра понятиями не покажется ей слишком странной. К тому же бывают вещи, бесполезные потому, что они – не средство, а цель.
"Философии, как и искусству, нельзя научить". Но можно учить не поэзии, а грамматике; не музыке, а нотной грамоте. В каждом искусстве таится ремесло; само слово искусство связано с понятием "умение" (искусный мастер). Такая же связь прослеживается во множестве языков. В философии тоже есть "ремесленные" навыки, без которых в ее мир лучше не входить. Их знание не дает мудрости, но дает возможность правильно выбрать профессию.
Даже если вы не увлеклись философией, вы можете научиться видеть проблему там, где ее не заметят другие, и в то же время не делать трагедии из факта одновременного сосуществования несовместимых способов объяснения действительности (без чего нет современной науки); почувствуете отличие гипотезы от теории, метафоры от понятия, логического вывода от утверждения аксиом мировоззрения; поймете, как важно слушать собеседников, терпеливо сносить их "инакомыслие", формулировать и выражать свои идеи, стремясь не столько к самовыражению, сколько к пониманию может быть; может быть освоите трудное искусство безболезнененно вступать в контакт с сообществом или индивидуумом, обладающим другим, непривычным способом мышления, другой психологией и другой системой ценностей: обретете способность не бояться авторитетов, но уважать их, развив в себе чутье к "высшему": и уж совсем хорошо, если поймете, что в мире есть тайны, превосходящие возможности нашего разума, о которых тем не менее можно мыслить, не жертвуя достоинством, ясностью и честностью интеллекта.
Часть первая
Доброхотов Александр Львович (р.08.09.1950).
Историк философии, культуролог; доктор философских наук, профессор.
Род во Львове. Окончил филос. факультетт МГУ (1972) и аспирантуру того же факультета (1975).
С 1975 по 1991 - ассистент, затем старший преподаватель кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ, с 1991 - доцент кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ, с 1993 профессор, с 1995 заведующий этой кафедрой.
С 1988 по 1996 - заведующий кафедрой истории культуры МФТИ. С 1992 по 1994 - зав. сектором методологии и теории Института охраны природного и культурного наследия России.
С 1995 - действительный член Академии гуманитарных исследований. С 1989 - член Международной ассоциации исследователей греческой философии (Афины).
С 1995 - член Международного генологического общества (Осло). В 1992 - Visiting Professor Католического университета Тилбурга (Нидерланды).
Книги (1)
Введение в философию
Иногда говорят, что философия - не школьная наука. Ее-де может постичь только человек, умудренный жизненным опытом и долгими размышлениями. Конечно, ни то, ни другое не помешает. Но, может быть, именно детство и юность - лучшее время для начала.
Философия любит спрашивать, для нее вопросы часто оказываются важнее ответов. Но детство и юность спрашивают чаще, чем другие эпохи жизни, а вопросы их бывают острее, фундаментальнее, чем вопросы людей зрелых.
Подросток еще не включился в "систему", он зачастую критически относится к миру взрослых, хочет его понять и оценить. Но и здесь его союзник - философия. Он наивен, и философия, в сущности, наивна; он непрактичен, но и философия отвлекается от непосредственной пользы. Он идеалистичен, и философия тоже ищет идеалы. Философия борется с предрассудками, но у юных их еще нет.
Доброхотов Александр Львович (род. в 1950 г.) – доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ. Область научных исследований – история метафизики; философия культуры. Основные публикации: «Учение досократиков о бытии» (М., 1980), «Категория бытия в классической западноевропейской философии» (М., 1986), «Данте» (М., 1990).
Эпохи европейского нравственного самосознания
Нижеследующий текст представляет собой попытку проследить поворотные моменты в истории европейского морального самосознания от условного начала до Канта. Речь пойдет о «стыках», суставах истории этических установок. Нет необходимости для этой цели выбирать ту или иную версию диахронии: в данном случае не так уж важно, является ли история морали циркулярным, поступательно-прогрессивным, рекурсивным, спиральным, хаотически-бессмысленным или еще каким-либо типом движения во времени. Важно, что вообще что-то происходит, и уже это дает нам право посмотреть на «крупноблочные» результаты процесса.
Моментом «диверциума» европейского этического сознания, отделившим его от общемировой архаической модели, можно считать то, что Ясперс обозначил «крылатым» именем осевое время. В этот период – VIII–III вв. до н. э. – закладываются основы новой эпохи мировой истории, характеризующейся появлением индивидуума как ценности и как субъекта истории. Если Средиземноморье в целом и Восток, обогатившись уроками «осевой революции», со временем возвращаются в привычную колею архаических цивилизаций, то Греция выходит на новый виток истории и становится родоначальницей европейской цивилизации. Соответственно, возникает и новая этика. Определить в целом, в чем ее новизна, не так уж трудно. Это этика индивидуальной ответственности в отличие от древнейшей этики родовой традиции или этики законничества, порожденной первыми цивилизациями. Если старая этика всегда могла сказать, почему нечто – хорошо, то новая, «осевая», этика с трудом находит внешнее обоснование выбора и обнаруживает необходимость сделать понятие добра первичным, выводя следствия скорее из него, чем из его из внешних причин. Конечно, говорить о рождении индивидуальности в это время нельзя (ведь и в наше время говорить об этом еще рано), но для этического сознания принципиально, что обоснование действия и выбора тем, что «так делали отцы», уже не кажется убедительным и требует соотнесения с личной позицией. Еще одна особенность «осевой» этики, связанная с рождением теистических религий, – осознание абсолютной точки нравственного отсчета, т. е. личностного Бога, который прямо, без опосредования природой, жречеством или обычаем, связан с человеком взаимным «заветом».
Осевая эпоха по-разному была пережита в разных культурных регионах. Исконная задача человечества– установить оптимальную связь с природой – решалась теперь с новой радикальностью, черпавшей свою энергию в индивидуальном самосознании. Можно говорить – с большой долей условности – о некотором цивилизационном выборе в решении этой задачи: китайская цивилизация выбирает примирение с природой, индийская – преодоление природы, европейская – преображение природы. Выбор Европы, инициированный Древней Грецией, поставил общую, актуальную и по сей день, проблему обоснования морального права человека на творческое изменение мира. Какому образу должно соответствовать преображение мира? Какой общей мерой мерить человека и мир, чтобы найти примиряющий закон? Этический смысл этой проблемы очевиден.
Ответ, который дают греки, можно попытаться свести к одному тезису: человеку, чтобы восстановить утраченную связь с миром, надо познать ту общую для него и мира форму, которая рождает космос из хаоса. Идея формальной меры, открывающей смысл и закон космоса, является стержневой для античности. Рациональная мысль, социальный закон, юридическое право и состязательное судопроизводство, канон и эстетическая форма в искусстве, игра в культуре, денежный знак в экономике, культ славы в общественной жизни, императив меры в обыденной морали, культ целесообразного труда, аргумент в философии, аксиоматическая теоретическая наука, миро правящий разум в космологии – этот неполный список ценностей и изобретений греческой культуры достаточен для того, чтобы представить значение интуиции формы. В этом же ряду находится и этика античности.
С одной стороны, очевидная интенция античной этики – стремление включить человека в космос, найти ему правильное место в универсуме. И здесь можно говорить о намерении греков обезвредить разрушительную силу индивидуальности. Вспомним в связи с этим, хотя бы, понятие «гюбрис»– дерзость, в которую впадает тот, кто нарушает космический распорядок и меру. Греки чрезвычайно боялись этого греха, и данная тема составляет один из лейтмотивов античной трагедии. Но, с другой стороны, оставаясь человеком, нельзя довольствоваться только своим «топосом», предписанным судьбой. Ведь человек в понимании греков – не ординарная часть универсума, а избранник богов. Он должен переступить меру и должен получить за это наказание. Этот прометеевский трагизм делает античную этику динамичной, неуспокоенной. Этому вторила и греческая религия страдающего Диониса, растерзанного в прошлом, возрождающегося в будущем и воскресающего в настоящем каждый раз, когда происходит разумное и праведное соединение частей в целое.
Примирить эту антиномию греки пытались в ориентации на меру и середину. Героический характер античной этики не исчезал в этой установке: впадать в крайность можно легко, расслабившись и отдавшись стихии, удержаться же в середине можно лишь огромным и постоянно возобновляющимся усилием воли и разума. Но как определить эту середину? Спектр решений был достаточно разнообразен: досократики предлагали следовать космическому закону, софисты – принять за нормативную меру самого человека, Сократ учил, что нужно искать эту меру там, где в человеке совпадают знание (мысль) и добродетель (бытие). Вслед за Сократом пошли и Платон с Аристотелем, предельно сблизившие этику с онтологией. Но, при всем этом, инвариантом оставался императив отождествления личного и объективно-космического. Характерен в этом отношении афоризм Гераклита (В 119), гласящий, что этос человека есть его демон (ethos anthröpöi daimön). Как всегда у Гераклита, прочесть и понять его можно по-разному, но, во всяком случае, мы видим, что этос (изначально – звериная нора, затем – повадки, нрав), оставаясь природной нишей и натурой человека, играет также роль божественной личностной силы, определяющей судьбу и дающей счастье. Человеческое бытие как бы растраивается на моральную природу, судьбоносную силу и живую индивидуальность между ними; и греки верили, что способ, которым все это можно связать, находится в ведении человека.
Главной потерей эллинистической этики, пожалуй, надо признать утрату этой веры в возможность связать нравственное бытие с космическим. Все три главные школы эллинистической философии декларируют возвращение к онтологическим идеалам досократиков, но это по сути «декадентская» тяга к архаике, на фоне которой тем ярче неспособность действительно воспроизвести старые идеалы. Полезно для иллюстрации сравнить этические импликации двух типов атомизма: Демокрита и Эпикура. Внешне – это тоже самое учение, но если атом Демокрита – это нерушимое бытие, порождающее в вихревом движении многообразные миры и даже вселенского бога в виде тонкого огненного вихря, то эпикуровский атом – это замкнутое в себе одиночество бытия, которое находится в бесконечном падении в пустоте и скорее запутывается в случайно порожденных мирах (каковые суть побочное следствие отклонения – «клина-мен»), чем творит их. Отъединенность, «искейпизм», молчаливая атараксия – все это мало похоже на древний моральный идеал с его «царским» самосознанием человека.
Евангельское моральное сознание, с которого начинается новая эпоха Европы, было вначале частью эллинистического мира. Когда об этом забывают, возникает наивная схема восходящих ступеней нравственного сознания. На деле же, мы видим не программу новой культурной эпохи, а радикальный разрыв с современностью христианского сознания, ощутившего близость конца света и прощающегося с культурой и миром вообще, в том числе – с его этикой. Мы можем найти немало этических рекомендаций в евангелиях, но это советы о том, что делать, когда этика «закончилась». Основной же тезис Нагорной проповеди – «покайтесь (metanoeite)» (Мф 3.2), – говорит, скорее, о необходимости осознать то, что произошло (извещение, kerygma), чем о необходимости улучшить себя. В то же время подчеркивается, что Евангелие, при всей его полемике с законом Моисея, призвано исполнить его, а не нарушить. Призыв Христа «Будьте совершенны (teleioi), как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5.48) в этом контексте звучит загадочно, поскольку потустороннее совершенство Бога-Отца вряд ли можно однозначно истолковать как этическое.
Ситуация изменилась, когда христианство стало государственной религией и должно было, так или иначе, создавать свою культуру. Вместе со становлением христианства как цивилизационной парадигмы в европейской культуре происходит постепенная, но глубокая и многосложная переориентация этики. Понятия добра и зла – именно как понятия – еще долгое время остаются в культурном обиходе продуктами эллинистического сознания, но религиозные интуиции раскрывают совершенно новое пространство, освоение которого заняло много веков.
В христианское понимание добра и зла вливаются три средиземно-морские традиции: греческая, иудейская и гностическая. Для греческих мудрецов добро – это полнота и цельность бытия, а зло – ущербность, болезнь бытия, нарушенные связи универсума. Ветхозаветная традиция понимает зло как нарушенный договор, а добро – как верность обету. История, по сути, и есть последовательность нарушенных и восстановленных обетов. И происходит она на фоне пра-события: невыполненного обещания Адама. Здесь уже нет античной статики космического порядка, а есть динамика двух воль – воли господина и слуги.
Гностики пытаются соединить космос и историю. Для них граница между добром и злом проходит между материальным и духовным миром, человек же – подвижный элемент этой границы. Он осуществляет космическую и историческую миссию спасения духа из плена плоти. К числу центральных мифологем гностицизма принадлежит повествование о злой материи, которая, так или иначе, поглощает носителей духа, но может быть и преодолена духом. Преодоление понималось как очищение от бремени зла и вещества. В христианстве (и шире – в европейской культуре) эта гностическая установка имеет длинную биографию, но, в конечном счете, в христианстве (особенно в католической и православной конфессиях) она оценивалась как еретическая. Во-первых, она плохо совмещается с христианским учением о первородном грехе, который проникает в сущность человеческой природы глубже, чем гностическая «порча», больше напоминающая болезнь, чем грех. Во-вторых, антифарисейский мотив христианской этики противоречит гностическому представлению о «чистоте». Для христианина возможен, а иногда необходим, путь принятия бремени греха на себя: этот вектор морального движения прямо противоположен гностическому очищению от зла, которое предполагает наличие некой здоровой сердцевины в человеческой природе, каковую и надо спасать и совершенствовать количественным накоплением добродетелей.
Христианская этика оказалась наследницей всех трех традиций, и это создает значительное ее внутреннее напряжение. Дело в том, что, во-первых, эти традиции сами по себе трудно сопрягаются, а, во-вторых, они служат лишь материалом для выработки собственно христианского понимания тайны добра и зла.
Уже в трудах отцов церкви заметно сосуществование и борьба этих традиций, но присутствует и новый ведущий мотив – зло есть грех. Грех же не может быть ни внешним привходящим обстоятельством человеческого бытия, ни простой отягощенностью материей. Он проникает в сердцевину свободной воли и касается глубин нашего существования. Ветхозаветный миф о первородном грехе также получает новое толкование: искупление греха уже не может пониматься как исполнение заповедей и законов; зло и добро разделены теперь Боговоплощением, которое делает и добро, и истину, и жизненный путь Личностью, и, соответственно, человек должен перенести сферу выбора и решения не в интеллектуальное измерение и даже не в моральное, но – в личностное. Столь же многоплановым становится переработанное в христианстве гностическое отношение к материи: императив борьбы с косным веществом, отъединяющим души от Бога, сохраняет свою силу, но сама по себе материя не воспринимается как источник зла и, более того, освящается как элемент творческого усилия Бога. Плоть и дух, говорят отцы церкви, не суть сами по себе добро и зло; они лишь носители этих сил при определенных условиях. Античный тезис о благости всякого бытия также сохраняется. И восточная патристика, и Августин часто прибегают к аргументам от иллюзорности зла. Но зло, будучи небытием, приобретает статус бытия благодаря пристрастию грешника к иллюзии, а в конечном счете – пристрастию к эгоистически истолкованному собственному существованию.
Важный поворот в понимании добра и зла был связан в христианском сознании с новым видением жертвенности души. Не аскеза и даже не нравственное совершенствование оказываются на первом плане. Кто будет беречь свою душу, тот ее потеряет; кто ее потеряет, тот – спасется. За этим евангельским парадоксом стоит новое понимание спасения. Все дело в том, как отдать то, что имеешь, а не в том, как его сберечь. Высшее благо – в жертве, а не в победе над врагом. Но жертва требует проникновения в смысл высшей Жертвы, принесенной Христом. Мы, таким образом, сталкиваемся с принципиально отличным от старых средиземноморских традиций отношением к моральному долгу человека: последнее основание добра скрыто от человека, но, благодаря опосредованию Христа, путь к добру открыт через воспроизведение жертвы Спасителя, через «подражание Христу», как говорили средневековые мистики.
Тесно связанной с этой интуицией оказывается проблема теодицеи, которая во все эпохи и во всех культурах была среди самых болезненных моральных проблем. Христианский теизм обостряет ее до предела: или Бог бессилен победить зло, или он не желает этого, – в любом случае он не будет соответствовать истинному понятию Бога всеблагого и всемогущего. Мышление христианское – «пост-эллинистическое» – дает нетрадиционный ответ на этот вопрос. Христианский Бог спасает человека не тем, что Он вырывает его из мира зла и возносит в мир добра, а тем, что сам нисходит в мир зла и разделяет с человеком ужас духовной и физической смерти.
Зло в таком случае не может пониматься как иллюзия, оно принимается всерьез как реальность, с которой человеческая душа не может справиться один на один. Мораль приобретает вселенско-историческое значение, так же, как тайна мировой истории накрепко связывается с моральным смыслом. Отсюда – еще одна существенная особенность христианского средневековья. Оно суживает границу применения моральных законов как таковых, сопоставляя закон с Благодатью. Мы не можем заранее знать, достигло ли наше стремление к добру своей цели, основываясь лишь на выполненном Законе. Добро по самой природе своей связано с Даром, со встречным движением высшего к низшему, с Благодатью. Несомненно, эта ситуация парадоксальна, если сравнить ее с эллинской или ветхозаветной этикой, но парадокс – не случайное свойство христианской морали. Средние века вполне сознательно и с большой эстетической изобретательностью воспроизводили его по мере того, как рутина богословия, психологии, да и просто быта склоняла мысль к более «естественным» путям дохристианской моралистики.
Западноевропейское средневековье XI–XIV вв. придает многим скрытым импульсам христианской духовности культурное оформление. С одной стороны, этим сглаживается острота парадоксов, о которых шла речь. Ведь культура Высокого средневековья как бы опять возвращается к своим истокам, примиряя в синтезе античные, романо-германские, кельтские, ближневосточные мотивы. С другой стороны, философская мысль достигает высокой степени утонченности и стремится сознательно выразить ту специфику христианского толкования добра и зла, которая ранее выражалась в мифе. Мистики, во многом опиравшиеся на Августина, создают целую науку о поисках добра и спасения индивидуальной душой, о ступенях ее восхождения к вечному Добру. Схоластики охотятся за точными дефинициями форм добра и зла. И в том, и в другом случае средневековье дает образцы интеллектуализма. Но нельзя забывать, что за ними стоял многовековой опыт монашества, этой своеобразной школы практической добродетели и созерцательной мудрости, не боявшейся острых антиномий. Одной из них была следующая: человек есть «раб Божий», и потому свое благо он обретает на путях служения и послушания, но, в то же время, Бог даровал человеку свободу, и служить он должен только Богу. Разумеется, повседневная этика упрощала эту антиномию до простой иерархии служения низшего высшему, но время от времени осуществлялось возвращение к чистоте идеалов (вспомним святого Франциска из Ассизи), и тогда заново ставился вопрос об искуплении зла и греха праведной жертвой. Еще одна антиномия, показательная именно для христианского средневековья, выдвинута Петром Дамиани в XI веке: если Бог не сможет – вопреки здравому смысл – сделать бывшее небывшим, то бывшее зло отравит все будущее добро. Но Бог, как хитроумно показывает Петр, может сделать в вечности то, что невозможно во времени. Вряд ли такая «по-достоевски» обостренная непереносимость зла, даже если оно – в модусе давно прошедшего, могла бы выявиться в более ранние эпохи.
Определенный максимализм христианского понимания добра и зла смягчался тем, что христианская этика была не только единоборством человека с дьяволом, но и этикой сословной, корпоративной. Сословия вырабатывали собственный кодекс добродетелей, и человеку, разумеется, было легче раскрывать свою нравственную природу, опираясь на коллективный опыт, на принятые «прописи» и житийные образцы. Добродетели монаха и рыцаря, ремесленника и земледельца были разными: крестьянин не обязан был жертвовать жизнью ради идеала, монах не должен был исправно платить налоги, рыцарю не надо было пахать, все же вместе – равные перед Богом – они составляли иерархическую лестницу служения Добру, соединяющую Небо и Землю. Если же такое «разделение труда» слишком облегчало жизнь христианина, рано или поздно появлялся страстный учитель или проповедник, заставлявший встряхнуться задремавшую совесть. Вплоть до Лютеровой революции европейская христианская культура жила в этом ритме профанации и очищения идеалов свободного служения Добру.
Надо помнить, что кроме собственно философских размышлений, большое влияние на сознание современников оказывала литературная мифология, которая на севере Европы кристаллизовалась в цикле артуровских романов, а на юге – в «Божественной Комедии» Данте. При всем различии этих феноменов, в них мы находим общий для зрелого Средневековья идеал добра: это – ценность, которая требует одновременно рыцарского подвига и монашеского смирения, приятия мира как творения Бога и отвержения мира как самодостаточной реальности. Негатив этого идеала – зло – подтверждает то же самое. Мир и человек, замкнутые на себя, на самоутверждение, приходят к смерти и злу; мир и человек, утверждающие себя ради высшего смысла, приходят к спасению.
Расставаясь с темой средневековья, следует оговориться, что «европейское» средневековье было элементом более широкого исторического контекста – средневековой средиземноморской, культуры. Поэтому корректнее было бы говорить о трех, по крайней мере, этических моделях: западно-христианской, византийской и исламской. Но в рамках нашей задачи – проследить логику смены моральных ориентиров – достаточна и западноевропейская тематика.
Следующий поворот этического самосознания занял триста лет – XIV–XVI вв. Все три его великие компоненты – эстетическая (Ренессанс), этическая (Гуманизм) и религиозная (Реформация) – могут быть обобщены именно этическим принципом, то есть программой Гуманизма. (Нам более привычен термин «Возрождение», в котором эстетические коннотации преобладают.) Гуманизм данной эпохи, как известно, – это не «человеколюбие», а, скорее, «человекославие», «антроподоксия» (оба смысла греческого слова докса- слава и вера – здесь вполне уместны). Идеал гуманистической этики – вир-ту -требует доблести и силы, разворачивания природных потенций человека и, если понадобится, принесения человека в жертву идеалу. Но было бы неверно забыть о том, что здесь – в возрожденческом гуманизме со всеми его жесткими императивами и антицерковными выпадами – нет еще разрыва с христианством как таковым, поскольку сверхзадачей гуманизма было переосмысление долга человека перед небесами: не пренебрежение тварным миром, а его изучение и восстановление замысла Творца есть долг христианина с этой точки зрения. Поэтому нравственность становится вершиной природных потенций. Гуманистическая этика лежит в основе искусства Ренессанса, поскольку она сняла средневековые табу, обосновала возможность визуального и психологического антропоцентризма, возвеличила человека-творца. Она лежит в основе религиозной Реформации, поскольку обосновала право индивидуума на связь с абсолютом без посредников и сакрализовала моральную и трудовую добродетель. Пожалуй, она лежит и в основе возрожденческой науки, т. е. оккультной натурфилософии, для которой создала идеал всесильного и сурового мага (ср. Просперо из «Бури» Шекспира), не ждущего милости от природы. Однако оптимистический период развития этого типа этики заканчивается к середине XVI века. Произошел внешний конфликт Гуманизма с реальной историей (символична в этом смысле судьба Томаса Мора) и внутренний конфликт, разорвавший единый идеал на два полюса: идеал природного совершенства столкнулся с идеалом волевого самоутверждения, в результате чего выяснилось, что природа равнодушна к человеку и знать ничего не хочет о «венце творения», легко растворяя его в своих стихиях; человеческое же Я равнодушно к морали и легко превращается в разрушительную и даже саморазрушительную силу. Лютер, Макиавелли, Монтень, Сервантес, Шекспир – как бы ни пытались они идейно или эмоционально компенсировать разочарование – в осознании этого печального итога Гуманизма доходят до крайних глубин трагизма. Религиозные войны, которые велись с небывалой для Европы жестокостью, стали «достойным» фоном для духовной резиньяции. Но отказаться от завоеваний Гуманизма было уже невозможно. Возвращаться было некуда: ведь разрыв с католической культурой был усугублен тем, что последняя оказалась в этот момент неспособной к обновлению и реформам, подтверждая тем самым приговор гуманистов. Таким образом, речь шла о том, чтобы найти новую формулу Гуманизма. И, к счастью для Европы, она была найдена.
Суть новой формулы условно можно выразить так: человек – в состоянии быть мерой всех вещей, но не сам по себе, а как носитель высшего идеала. Задача теперь – в том, чтобы найти и истолковать этот идеал. Итоги поисков мы можем найти и в моделях абсолютизма, и в практике раннего капитализма, и в экспериментальном математическом естествознании, и в противостоянии классицизма и барокко, и в полемике рационализма с эмпиризмом, и в становлении нового правового сознания, и в новой педагогике, и в идеологии Контрреформации, и в расцвете утопизма. Обобщенно говоря, XVII век заложил духовный фундамент Нового времени благодаря интуиции, которая позволила найти середину между поляризованными крайностями и переосмыслить три ведущие темы нового сознания: природу, разум и человека. Нетрудно заметить, что речь идет о способности человека задавать объективную меру своим субъективным импульсам. Одно из самых устойчивых обозначений этой способности-рационализм. Поскольку ratio – это «мера», «пропорция», то термин можно признать удачным. Однако часто забывают (и это само по себе яркий симптом), что фундаментальный поворот в европейской культуре был обусловлен этической интерпретацией рационализма. Всегда, например, обращают внимание на то, что Спиноза придал своей этике противоестественную форму учебника геометрии, но труднее понять, что на самом деле здесь геометрии придается этический (собственно, религиозно-этический) смысл. Часто вспоминают призыв Паскаля «хорошо мыслить», чтобы осуществить предназначение человека, но редко обращают внимание на то, что здесь логика подчиняется этике, а не наоборот, так же, как в словах о «логике сердца» ударение стоит на «логике», поскольку именно этика является объективной мерой чувства и в этом контексте берет на себя роль логики. Одной из ключевых фигур этого процесса нового обоснования этики был Декарт. Мы можем рассмотреть его «когито» еще и как фундамент онтологии, включающей в себя метафизическое обоснование личности и морали. Декарт осуществляет доказательство единичности субъекта свободной воли и, в то же время, общезначимости осуществляемого им акта самосознания: тем самым обнаруживается способность индивидуума выходить в измерение «должного». В акте когито неразличимы свобода и необходимость, поскольку осуществляется «своя» необходимость. Здесь же подтверждается сократовский принцип тождества в добре воли и знания: ведь знание истины порождается волей к самосознанию, воля же становится волей, а не аффектом, благодаря ее неотделимости от «эго». Отсюда же следует неразличимость практического и теоретического: когито нельзя получить как перцепцию, его можно осуществить, перформативно сотворить. Еще одно принципиальное этическое следствие: когито требует того, что сейчас принято называть интерсубъективными отношениями. Ведь я не могу извне манипулировать чужой духовностью (так же как и «злой демон» не может сделать меня объектом внушения), чужое эго в принципе мне не видимо сквозь заслон феноменальности, следовательно, я вынужден постулировать равноценный мне субъект общения. Чтобы понять, почему мы имеем дело с этикой, а не только с онтологией, надо принять во внимание, что из когито Декарт выводит онтологическое доказательство бытия Бога. Ведь когито содержит как сознание своего несовершенства, неполноты, так и требование совершенства. Злое же совершенство противоречиво (по крайней мере – для Декарта). В конечном счете Бог оказывается гарантом общения индивидуумов именно «в добре»: в противном случае они оказываются аффективными марионетками телесной субстанции. При всем этом, этика когито не предлагает содержательных предписаний и является формальной конструкцией, что и позволяет говорить о когито как об этической парадигме Нового времени.
Сказанного, по-моему, достаточно хотя бы для того, чтобы представить, насколько глубок этический пафос когито (а это ведь исток всего новоевропейского рационализма) и насколько произвольной стилизацией является столь распространенное приписывание декартовскому когито субъективизма и формальной рассудочности. Однако уже в XVIII веке картезианская этическая программа сталкивается с альтернативной программой эмоциональной (назовем ее так) этики, которая, в конечном счете, вытесняет картезианскую. Новая интуиция предполагает непосредственную очевидность и ценность человеческих переживаний и враждебно относится к любым абстрактным императивам, которые подчиняют себе многообразие душевной жизни. Смена «моды» затронула весь спектр просвещенческой культуры, и XVIII век обязан этому своим расцветом эстетической чувственности и праздничности, равно как и подъемом уважения к правам индивидуальности. Но нельзя не заметить и оборотной стороны этой переоценки ценностей. Реверсом здесь является утрата онтологического обоснования этики и нарастающая доминанта субъективного произвола. Нельзя сказать, что этика в XVIII веке уступила свою роль «учителя жизни» эстетике: в каком-то смысле потребность в этической доктрине даже выросла, что, в немалой степени, было стимулировано ростом социального самосознания «третьего сословия». (Последующий XIX век – вплоть до декадентского эстетизма и протототалитарных экспериментов – также надо признать этически ангажированным именно по этой причине: этика вынуждена была служить победившему бюргерству суррогатом религии, аксиологии и телеологии. Идеальной иллюстрацией тут служит парадигма «викторианства».) Однако в целом опора на витально-психическое начало человека приводила к размыванию собственно нравственного начала. Утилитаристские и сентименталистские версии обоснования морали были убедительны до того предела, после которого вопрос «почему это хорошо?» сменялся вопросом «почему я должен?». И здесь путаница, отождествлявшая морально-доброе с приятным, полезным, легитимно-правильным, религиозно-благочестивым, эстетически прекрасным, приводила или к кризису, или к деструкции морали. (См. историю «либертинажа» от Вольтера до Сада и далее – со всеми остановками.)
Как бы там ни было, надо отдать должное XVIII веку. Одна из его коренных интуиций несла в себе удивительный по мощи и жизнеспособности этический заряд. Это – как ни странно – чувство «формы», которое позволило веку создать художественные шедевры. Томас Манн где-то называет это чувство «аристократическим», подчеркивая не его сословную окраску, а способность поднимать дух над всеми типами материально-реальной обусловленности. Форма одновременно апеллирует к чувственности и рассудку, что позволяет ей приводить эти способности (часто тяготеющие к конфликту) в гармонический союз. (Не это ли имел в виду Достоевский, говоря, что красота спасет мир?) В то же время, форма требует дисциплины и меры, о чем бы ни шла речь: стиль, ритуал, нравы, речь, жест, ритм. Почему этика? Дело в том, что утилитаризм, обращаясь к весьма, вроде бы, личному началу в человеке, – к интересу – предлагал, по сути, внешние стимулы, к тому же толкуя их в рамках буржуазно-мещанской аксиологии. Довольно быстро выяснялось, что сам «интерес» нуждается в обосновании и философской экспликации. Дворянский же, по генезису, принцип формы, принцип ритуала и «комильфо», безразличный к конкретному, позитивному интересу субъекта, затрагивал более глубоко сидящие в личностном начале импульсы, и парадоксальным образом легче становился внесословной ценностью. БезобрАзность и безОбразность зла была в этом случае более сильным противоядием, чем собственно моральная дидактика. Хороший пример: эволюция британского кодекса «джентльмена» в XVII–XVIII вв. от сословного идеала к общенациональному и – по контрасту – четкие отличия сословных этических стилей во Франции того же времени. Франции – законодательнице «форм» – не хватило каких-то шагов, чтобы освободить этот принцип от сословной скованности и тем самым, может быть, избежать революции. До известной степени эту ошибку повторила и Россия. Не случаен лейтмотив пушкинской политической мысли: аристократия должна передать народу свой этический кодекс.
И все же эстетический принцип не мог заменить собой этику, и моральное сознание века зашло в тупик, который далеко не всеми осознавался, но не терял от этого своей разрушительной силы. Теоретически кризис был преодолен Кантом, с этического учения которого начинается новая – длящаяся по сей день – эпоха нравственного самосознания, а, может быть, начинается и сама современность.