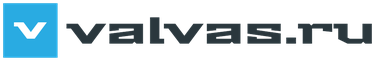Если всё необходимое для жизни верующего человека содержится в Евангелии, то зачем нужны новые богословские тексты? Что представляет собой богословие по своей сути? В чём заключается смысл отвлечённого богословия, которое оперирует абстрактными для простого сознания категориями? Как богословие соотносится с философией? Обязательно ли для монаха быть сведущим в богословии? На эти многие другие вопросы дает глубокие ответы в публикуемом интервью монах Диодор (Ларионов).
Давайте начнём нашу беседу с того, что меня лично смущает. С одной стороны, мне кажется, всё необходимое для жизни верующего человека содержится в Евангелии. С другой стороны, я вижу обилие богословских книг, различных текстов, бесконечно повторяющих и объясняющих некие вещи, которые на первый взгляд кажутся непонятными, а часто даже излишними. С чем может быть связана эта потребность у людей создавать всё новые и новые богословские тексты?
Я бы в первую очередь, конечно, указал на учительский характер богословских текстов. Многие богословы пишут для того, чтобы принести пользу. Например, пастырь, священник пишет для прихожан, чтобы им что-то объяснить. Пастырь обязан учить людей, проповедовать, он на это поставлен. Это важное и полезное дело. Но многие богословы, конечно, не ставят перед собой такой цели, потому что, во-первых, не все богословы священники, а, во-вторых, многие из них принципиально не хотят кого-то учить, они пишут для того, чтобы исследовать, раскрыть какую-то тему, дать решение назревшего вопроса, решить ту или иную апорию, сложность. Естественно, что решаешь её, когда пишешь для самого себя в первую очередь, и, возможно, это перекликается с вопросами другого человека.
Можно сказать, что постоянная необходимость создания новых богословских текстов связана с тем, что, несмотря на предание, на отцов, возникают какие-то современные новые проблемы, и в новом контексте нужно решать то, о чём говорили отцы, по-новому? Или как-то находить их учению новое применение?
Я бы не говорил так.
- А как?
Конечно, возникают новые проблемы, но по своей сути проблемы все старые. Человек всегда один и тот же, и в древности, и сейчас. Внешние условия меняются, но не настолько, чтобы с ними менялась и человеческая природа. Когда говорят о необходимости отвечать на новые проблемы по-новому, обычно это означает, что от богословия пытаются получить какой-то отклик на внешние обстоятельства, в которых существует человек, причём подразумевается, что этот отклик должен изменяться вместе с обстоятельствами. Но это ошибка. Богословие не занимается внешними обстоятельствами, его интересуют существенные вопросы человеческого бытия в его соотнесённости с бытием Бога. Всегда есть опасность, принявшись за решение задачи по-новому, сказать то, что ты сам искусственно порождаешь в себе, и вместо решения проблемы породить новую. Ведь богословие имеет дело с божественным откровением, а не с идеями и контекстами современности, оно не занимается ответами на все вопросы, вызванные изменяющимися обстоятельствами жизни. Богословие - это работа над собой, а не решение задач и пазлов, которые составляет эпоха. Предание Церкви, выраженное в учении святых отцов, как раз содержит факты такого откровения, которое есть результат работы над собой святых людей. Задача богословия - усвоить Предание Церкви как своё собственное, исправить свою мысль по образу мысли святых, то есть в конечном итоге научиться видеть всё существующее в Духе Святом. Это первоочередная задача богословия, всё внимание богослова привлечено к такой работе, результаты которой иногда, но не обязательно, выражаются в создании богословских текстов. При таком подходе богословие является внутренней необходимостью, это потребность в том, чтобы учиться жить. Поэтому иногда богословские тексты содержат решение новых проблем, но такое решение, подчёркиваю, может возникнуть в тот момент, когда богослов не ставит себе задачи сказать нечто новое, а обращает своё внимание к тому, чтобы усвоить дух, которым руководствовались предыдущие поколения христиан, и через это оживить в самом себе связь со всей христианской традицией, составляющей внутреннее самосознание Церкви. Богословие, по сути, озабочено бытием Церкви, его интересует, как жить по способу Церкви. В этом смысл христианской интерпретации Писания и Предания: она не создаёт какого-то нового решения новой проблемы, наподобие того, как это делает философия; она излагает богословское видение ситуации, в свете которого решение для человека, в том числе и читателя, возникает само собой и индивидуально. В этом смысле, я думаю, богословие - это такое видение, которое изначально оперирует не концепциями и категориями, а тем, что имеет непосредственное отношение к бытию всякого человека ещё до того момента, когда он задал свой вопрос.
Тогда это вопрос языка? Нам нужно произнести то же самое, что говорили святые отцы, но пересказать на современном языке?
Нет, конечно, это не вопрос языка. Просто многие вещи, которые были для древних христиан ясны, с течением времени замутняются, обрастают ложными ассоциациями, ложными идентификациями, даже традициями, которые происходят, возможно, не из глубины христианства, а зависят от каких-то мирских, побочных целей, даже, возможно, народных верований, языческих представлений и традиций, посторонних религиозных течений, философских учений, которые замутняют изначальное видение веры, видение божественного промысла, того, о чем говорили святые отцы. И разогнать этот туман, мне кажется, одна из главных задач богословия.
- То есть с каждым новым временем, поколением возникает идеологическое влияние, вмешательство?
Не только идеологическое, любое: психологическое, эмоциональное, материальное… Человеческая жизнь состоит из многих элементов, не только из идеологии, не только из интеллекта. Всё оказывает влияние на религиозную жизнь во всех её формах, и задача богословия, мне кажется, прояснить исконное послание, благовестие, прояснить то видение божественной жизни и жизни Церкви, которое изначально присуще христианству.
А в чём тогда смысл отвлечённого богословия, которое оперирует абстрактными для простого сознания категориями? Зачем разбираться в том, о чём говорил, например, Григорий Палама? Потому что неискушённому читателю это иногда кажется какой-то бессмыслицей.
Эти «абстрактные категории» кажутся бессмысленными только на первый взгляд, на самом же деле они очень просты и тесно связаны с опытом «простого сознания». Можно сказать, что всё богословие Григория Паламы это попытка понятно и на доступном языке - я бы даже сказал, на пальцах - изложить основные принципы духовного делания афонских монахов его времени, описать их опыт, и указать на условия, при которых возможен такой опыт. Дело в том, что все образованные византийцы, и вообще греки, всегда бросались с головой в споры на те темы, которые вы назвали абстрактными, а для них они не были абстрактными, они были для них очень конкретными, и я бы даже сказал «физически» ощутимыми. Судя по первым письмам Паламы, с которых, собственно, начались его многолетние споры со своими противниками, его ум созрел для некоего последовательного теоретического изложения богословия Церкви, существовавшего в его время в одностороннем режиме, то есть в качестве практики созерцания и молитвы. Живя в пустыне многие годы, Палама не только молился и трудился, но и непрестанно питал свой ум теорией, то есть читал богословские тексты, которые были сформулированы на философском языке поздней античности. До сих пор все греки-монахи очень много читают. У нас в монастырях это не так, среди наших настоятелей распространено мнение, что монахам читать вредно, потому что якобы от этого они перестают быть послушными, но такой подход я назвал бы извращением, он совершенно не согласуется с монашеской традицией. У греков эта традиция жива. Мне это бросилось в глаза, когда я переводил книги старца Иосифа Ватопедского: этот монах закончил всего два класса начальной школы, но его речь, его тексты производят впечатление, будто их написал человек с университетским образованием, потому что в языке, на котором говорит старец Иосиф, присутствует строгая и разработанная философская терминология, у него видно умение точно и осмысленно использовать понятия и аргументировать тезисы, выражать смысл того, что постигнуто и пережито на опыте - а такие вещи не каждому богослову с университетским образованием под силу. Самое интересное, что он всё приобрёл в пустыне - он был именно пустынножителем, - то есть всё его образование состояло из того, что он читал в своей афонской келье.
Вы сказали, что святые питали свой ум теорией. Выходит, такое высокое, теоретическое богословие – это пища для ума?
Конечно. Ведь человек существо, которому всегда необходима какая-то пища для поддержания жизни. И для ума, соответственно, тоже необходима пища, и я думаю, что религиозная жизнь, в особенности христианская жизнь, дает очень много пищи для ума, и человек, у которого есть потребность познать мир, понять его устройство, понять всю его сложность и красоту, возможно, во многом исходит из подобной религиозной необходимости. Ему необходимо напитать свой ум этими впечатлениями. Например, если внимательно вчитываться в сочинения Григория Паламы, о котором мы с вами заговорили, можно заметить, насколько, кроме выражения опыта, его волнует теоретическая составляющая богословского рассуждения, ему важно знать, каким образом человеческие понятия выражают божественную реальность, как откровение соотносится с опытом, и т.д.
То есть это чисто интеллектуальная деятельность, которая может выражать определённый опыт, а может и не иметь прямого влияния на духовную жизнь?
Я думаю, что если мы говорим о подлинном богословии, то оно всегда имеет прямое влияние на духовную жизнь. Просто для кого-то из верующих стремление разобраться в тонкостях богословской науки необходимо в большей мере, для кого-то в меньшей. Во всяком случае опыт средневековых монастырей, например, или опыт некоторых современных греческих монастырей показывает, что для монашествующих богословие становится более актуальным, чем для мирян, погруженных в мирские заботы. Думаю, что размышление о божественных предметах, которое влечёт ум к духовным переживаниям и требует в немалой степени аскетического напряжения, полезно и даже необходимо человеку, следующему за Христом и оставившему мир. Та пища для ума, которую дает богословие, напояет ум уже не мирскими впечатлениями, не образами повседневной жизни, где господствует суета, ложное устремление к преходящим вещам, а чистой водой богопознания, то есть мыслями о божественных вещах. Те или иные понятия и абстрактные категории, о которых вы упоминали, служат вспомогательными ориентирами на этом пути. Точно так же, мне кажется, богословие более актуально для священников, потому что священство - это тоже посвящение своей жизни Богу, решение служить Ему. Отсюда опять следует, что для священника мирские заботы должны уходить на второй план, а на первый должны выдвигаться заботы о духовной жизни, а для этого в свою очередь необходимо питать ум соответствующими впечатлениями.
Не получается ли так, что речь идёт лишь об интеллектуальных впечатлениях у человека, который ведёт сосредоточенную жизнь? Если дело не только в интеллекте, тогда какую роль играет богословский язык? Терминология имеет какое-то значение?
Человек - тварное существо, более того - он существо материальное, телесное. Этим обусловлена его зависимость от внешних впечатлений: чтобы наш собеседник понял нашу мысль, мы должны облечь её в звуки и буквы. Отдельные слова составляют понятия, которые уже в определенной степени нематериальны, потому что представляют собой не сами предметы, а обобщённые мысли о них. Поэтому понятия, которыми мы обмениваемся в процессе общения и познания, есть не что иное, как абстрагирование от определенных совокупностей вещей, объединяемых по признакам подобия. Эти совокупности в древности и средние века назывались родами и видами, сегодня в современной логике, после Бертрана Рассела, они всё чаще именуются классами, но это всё в данном случае не так важно. Важно то, что терминология, которой пользуются богословы, - это не какой-то свой специально созданный язык, это язык «общих понятий», то есть понятий, которые приняты в употреблении. Святые отцы многократно настаивают на этом факте, то есть на том, что они пользуются общими понятиями. Есть даже трактат святого Григория Нисского, посвящённый учению о Троице, который так и называется «Увещание к эллинам, на основании общих понятий». И поскольку человеческое сознание опирается на такие общие понятия, богословие неизбежно их использует - хотя бы просто для того, чтобы донести мысль до другого человека. И поскольку мысль, которую пытается донести богослов, касается божественного мира, богослов должен быть ответственным в использовании языка, из чего следует необходимость быть строгим в терминологии. С другой стороны, конечно, нельзя забывать, что человеческие понятия условны, поскольку образованы на основе обобщения наблюдаемой материальной реальности, то есть созданы нами самими.
- То есть понятия используются как ориентир для практической жизни?
Совершенно верно. Практическая и созерцательная жизнь имеют одну цель. Восходя от материальных вещей к умопостигаемым, то есть нематериальным, но тем не менее всё равно сотворённым, созданным нами «общим понятиям» о материальных вещах, мы приучаем наш ум к более тонким ощущениям, помогаем ему со временем научиться узнавать и даже видеть то, что действительно не создано, я имею в виду вещи нетварные, божественные. А когда человек видит цель, он может начать осуществлять её на деле. Когда я понимаю, что есть добро, я сам совершаю доброе дело, вследствие чего становлюсь добрым. Точно так же происходит и с таинствами Церкви - чтобы их реализовать, надо учиться их видеть. При этом богословском видении, которое святые отцы назвали «мистагогией», то есть посвящением в таинства, перед человеческим взором открывается картина того, как Бог устроил мир и совершил его спасение. У человека складывается глубокое внутреннее понимание того, какой дар Бог дал человеку, потому что этот дар мы способны оценить только очищенным умом и очищенным сердцем, иначе он ускользает от нас, даже если мы нечто слышали о нём или прочитали в книгах. У преподобного Максима Исповедника есть сочинение, - я считаю, одно из самых важных в святоотеческой письменности, - которое так и называется «Мистагогия», оно как раз посвящено этой теме, о которой я говорю.
Вы хотите сказать, что человек в своём обычном состоянии не видит того, что ему дано, и поэтому ему необходимо очистить ум посредством интеллектуальных упражнений?
Не только интеллектуальных, в том-то и дело. Ум, начиная действовать, захватывает попутно все остальные человеческие способности, в том числе чувства и волю, то есть всё человеческое существо. Что же касается упомянутого вами обычного состояния человека, в котором он не видит то, что ему дано, то да, это своеобразная слепота, некое состояние самозабвения. Хайдеггер писал о том, что ближайшее для человека всегда оказывается наиболее отдалённым, ускользающим. Он имел в виду Бытие - ведь человек живёт именно в силу бытия, то есть бытие есть то, что является условием конкретной жизни человека, его конкретного «проживания», но тем не менее Бытие всегда, для каждого человека становится чем-то, что каким-то таинственным образом ускользает от него самого, от его конкретной вовлечённости в окружающее его сущее. Хайдеггер описывал это состояние как «забвение Бытия». Человек не видит не только того, что ему дано, но даже и того, что он есть. Со святоотеческой точки зрения, речь идёт, конечно, о даре Благодати, потому что именно благодать есть начало, исток бытия как такового.
- Христианство здесь пересекается с философией?
Христианство восполняет философию, наделяет её смыслом. Если философия ищет встречи с Бытием, то христианство утверждает, что можно встретиться с бытием только в свете благодати. Греки, разумеется греки-христиане, издревле любили говорить, что мир «содержится» благодатью, то есть он как бы держится на ней, удерживается ею от распада. Это очень точная идея, в основе которой лежит корень слова «держать»: Бог, который создаёт мир, продолжает воссоздавать его снова и снова, Он как бы содержит его, сохраняет, непрестанно создаёт. Ведь благодать, то есть энергия Божия, или, скажем проще, божественная деятельность, не только создаёт мир из ничего посредством какого-то одноразового акта, но и присутствует в мире в качестве принципа, лежащего в основании этого мира. Поэтому созерцание бытия для верующего человека оказывается всегда встречей с Благодатью, деятельностью Божией непосредственно, то есть лицом к лицу. Об этом, кстати, говорит святой Григорий Нисский в начале своего трактата «О цели христианской жизни». Он говорит, что если мы хотя бы немного отрешимся от привязанности к телу и мирским делам и обратимся взором в свою собственную душу, мы в самой своей природе увидим во всей чистоте и ясности любовь Божию к нам и намерение, какое Бог имел при создании человека. Святые отцы называют это зрением логоса творения. Именно о таком упражнении идёт речь, а не об интеллектуальном познании в том смысле, в котором это выражение употребляется обычно, то есть в смысле сбора и анализа некоей информации. И такое упражнение всё больше и больше возводит ум, а потому и всё существо человека к Богу, снова и снова возвращает к Нему, и это очень полезно и очень важно в христианской жизни. Это как раз и есть один из аспектов духовной жизни - размышление о божественных вещах. Когда ты знаешь и понимаешь глубже, каким образом Бог спас мир, каким образом он осуществил своё домостроительство, то в тебе проявляются уже какие-то духовные ощущения, ты начинаешь лучше видеть красоту и благость Божию, ощущать больше Его любовь к нам, ты глубже постигаешь истину божественного бытия, лучше понимаешь, как и с какой целью Бог создал мир, и в тебе просыпается всё большая и большая любовь к Нему. Вот для этого служит богословие.
Мне понятно, когда говорят, что богословие пробуждает любовь к Богу. Но мне не понятно, когда я вижу, что богословие воспринимается как научное знание. Например, догматика. Принято считать, что ты можешь познать учение Церкви о том-то или о том-то только тогда, когда прочитаешь гору книг на тему, как вели полемику древние греки-христиане со своими оппонентами - еретиками. Но когда окунаешься в изучение этой полемики, понимаешь, что часто взгляд на события зависит от интерпретации тех или иных источников, и мне это знакомо по университету, я вижу в этом чисто академическое знание. И я понимаю, почему многие верующие целиком посвящают себя такой научной деятельности. Но при этом они теряют что-то очень важное. Ваш же подход кажется противоположным - вы постоянно всё сводите к практике, но при этом почему-то не теряете интереса к научному познанию. Вы не противоречите себе?
Противоположный подход отрицал бы научное познание.
- То есть для вас наука и практика не противоречат друг другу?
Я бы сказал большее: для меня они тождественны.
Разве? Но ведь догмат описывает некую отвлечённую реальность божественного бытия, понять которую трудно без специальной философской подготовки. А практика в контексте христианства - это, как я понимаю, исполнение заповедей Божиих, и для этого специальные научные знания не нужны.
Совершенно верно. Но догмат не только говорит о том, какова та или иная реальность божественного бытия, но и показывает, каким образом эта реальность соотносится с нами, что нам следует делать, чтобы самим прийти в соответствие с ней. Именно поэтому святые отцы называли богословием учение о Боге в самом себе, о Святой Троице, о свойствах Божиих, а христологию, то есть учение о спасительном воплощении Сына Божия, называли домостроительством. Сотериология в этом плане - это богословское развитие христологии, учение о применении христологии на практике. Догмат утверждает явленное откровение, в котором человеку дана возможность спасения. И в этой сотериологической соотнесённости догмата с жизнью, мне кажется, - средоточие духовного делания, она, эта соотнесённость, лежит в основе как созерцательной устремлённости к Богу, так и практического осуществления Его заповедей. Поэтому я бы сказал, что сотериология - это именно тот фактор, благодаря которому триадология и христология перестают быть наукой и становятся практикой.
- Почему вообще богословие становится научным?
Богословие как наука появляется уже на уровне рефлексии, то есть мышления в пределах категорий и понятий, доступных для анализа. Это не значит, что такое богословие ниже или хуже, просто оно опосредованно, обусловлено тем, что один из католических богословов, Бернард Лонерган, называл опытом виртуально необусловленного.
То есть богословие как наука обусловлена тем, что само ничем не обусловлено? Речь идёт о личной встрече с божественным миром?
Да, речь идёт об опыте встречи с божественным миром, с нетварной реальностью, которая, собственно, является предпосылкой не только для богословия как такового, но и вообще для жизни мира и человека. Такие богословы, как, например, преподобный Максим Исповедник, называют такой опыт «неизгладимым познанием», ἄληστος γνῶσις. Этот опыт возможен благодаря божественному откровению, благодаря тому, что Бог сам себя являет человеку по своей благости и милосердию. Но пока человек лично не удостоился такого познания, он опирается на опыт святых.
Как я понимаю, богословие на каком-то начальном уровне тождественно патрологии. И задача патрологии адекватно выразить опыт святых. Но не примешивается ли сюда ограниченность человеческой способности к интерпретации?
Патрология, будучи богословской дисциплиной, должна стремиться к наиболее адекватному изложению учения того или иного отца Церкви в контексте формирования христианского догматического и вообще богословского Предания. А она сегодня занимается всем чем угодно, выискивает у отцов какие-то особенности, представляя того или иного отца оригинальным мыслителем и т.д., но не служит своему прямому предназначению. Тем самым патрология превращается в светскую дисциплину - некий аналог истории философии, теряя связь с богословием Церкви, иначе говоря с самой Церковью. Но отношение между богословием и философией, конечно, - отдельная тема. Вообще патрологию интересует по большому счёту только одно: каким образом интерпретировали божественное откровение те люди, которых Церковь назвала своими отцами и учителями. Это даже не все святые, это только те отцы, которые утвердили догматическое предание Церкви, выразившееся в постановлениях Вселенских соборов.
- То есть богословская наука имеет дело с интерпретацией божественного откровения?
Я бы сказал так: наука занимается анализом и систематизацией данных откровения. А интерпретация уже зависит от многих факторов, часто совершенно ненаучных. Чтобы интерпретация оставалась в рамках богословия и не скатывалась к фантазиям, как это часто бывает, ей нужна опора в чём-то другом. Я уже сказал, что считаю здесь важным говорить о богословии как таковом, которое исходит из опыта созерцания того, что преподобный Максим именовал логосами творения, логосами суда и логосами промысла Божия. И такое созерцание невозможно без практической духовной жизни, без аскезы, то есть практической деятельности, которая состоит в исполнении заповедей. Ведь даже сами эти логосы учат именно практической деятельности, потому что цель созерцания - научиться жить согласно своему собственному логосу, то есть согласно тому предназначению, ради которого мы созданы. При этих условиях богословская интерпретация будет оставаться в рамках Церкви и вообще христианства. Когда мы говорим о научном подходе к богословию, мы почему-то всегда забываем, что богословие основывается на вере, а не на аргументах. В православии не аргументы конституируют веру, а вера конституирует аргументы. Проще говоря, мы увидели Христа, познали его как Бога и нашего Спасителя, лично полюбили его больше всего на свете, - а затем уже пытаемся описать произошедшее средствами языка, на основе «общих понятий». Многие люди, которые не имели такого опыта, спрашивают нас, что случилось, - и мы не можем игнорировать их просьбу, потому что видим, что потребность в познании истины не даёт им покоя. Мы должны проявить к ним милосердие и описать опыт любви к Богу. Более того, милосердие состоит и в том, чтобы пробудить в других людях эту духовную любовь, которая присуща человеку по природе, сказать слово, проникающее до глубины человеческого существа, в котором обретается эта тоска по Богу, жажда богопознания.
- Может, поэтому часто богословие отождествляют с апологетикой, с миссионерством?
Да, чтобы избавить людей от заблуждения, люди изучают богословие, догматику, чтобы объяснить, как правильно веровать, с точки зрения веры Церкви. Отсюда рожается цикл богословских наук: сравнительное богословие, основное богословие, или апологетика, догматическое богословие, нравственное богословие, каждое из направлений служит своим целям. Но для монахов, например, - поскольку мы снова и снова возвращаемся к монашеству, - мне кажется, наиболее важным оказывается такое богословие, которое состоит в созерцании и практическом делании, то есть когда учение предполагает практику, даёт ей смысл, а практика, в свою очередь, обусловлена учением. «Метафизика» Аристотеля начинается такими словами: «Человек по природе стремится к познанию». То есть стремление к познанию, стремление узнавать то, в чем ты живешь, что такое жизнь, что такое человек, что такое мир и что такое Бог, заложено в природе человека. Познание необходимо человеку как пища и как дыхание. И богословие как раз помогает этому.
С Аристотелем многие могли бы поспорить. Потому что окружающая действительность очень часто показывает - и вы сами это прекрасно знаете, - что не все люди стремятся к познанию. Но если говорить о монашестве, то да, видимо, вы правы, и богопознание - это именно то, что руководит человеком, желающим принять монашеский постриг. Тем не менее, всё равно это кажется уделом небольшого круга людей. А как быть с остальными христианами?
Ну, я-то как раз думаю, что монашество и христианство тождественны. Монашество - не какая-то надстройка над христианством, это просто христианство, mere Christianity, как говорил Клайв Льюис. И здесь, кстати, выражение Аристотеля может приобрести свой более глубокий и более аутентичный смысл. Ведь Аристотель не говорил о всяком человеке, которого вы видите на улице. Для него, как и для любого грека - его потенциального читателя, - понятие «человек» означало такого человека, который выражает логос своей природы, а потому Аристотель добавляет указание на эту природную обусловленность: он не сказал, что «всякий человек стремится к познанию», а сказал, что «человек по природе стремится к познанию». У древних греков был очень оптимистичный взгляд на человеческую природу - в устах Аристотеля указание на природу означало совокупность совершенств, заданных природой. Поэтому человек, не живущий согласно своей природе, для него был недочеловек, то есть не совсем человек; он же предпочитал говорить о человеке в полном смысле этого слова. Что же касается уже христианского контекста, в котором я употребил это выражение Аристотеля, то здесь монашество выражает логос нового человека, созданного по образу Иисуса Христа. Монашество не делает ничего, чего бы не делал Богочеловек Иисус Христос: Он был нищим, не имел где главы преклонить - и монашество вводит обет нищеты и странничества, Он пребывал в послушании Отцу - и монашество ставит послушание условием христианского совершенства, Он прожил жизнь в девстве и целомудрии и непрестанной молитве - и монашество вводит обеты девства, целомудрия и непрестанной молитвы в подражание Христу. Таким образом, монашество - не удел небольшого круга людей, это не тот особый путь, когда человек озабочен неким дополнительным интересом к богопознанию. Монашество, по сути, не выражает никакого взгляда, никакой методологии, никакого мировоззрения, ничего того, что не было бы общим для всего христианства. Поэтому как аристотелевский человек согласно своему логосу стремится к познанию, так и новый человек согласно своему логосу стремится к богопознанию, то есть к познанию Христа. И в этом случае это тоже будет не всякий человек с улицы, пусть даже он называет себя христианином, а только тот, в ком осуществляется, в той или иной мере, совокупность совершенств, заданных Евангелием. Мы можем называть это монашеством, но я думаю, что всё-таки совершенство доступно всем христианам.
Для меня это звучит убедительно. Но вот вы говорите, что богословие - это путь к познанию Бога, которое необходимо для того, чтобы приобщиться к Нему, возлюбить Его. В то же время вы сами признаёте, что не можете избежать научного подхода к богословию, то есть изучения, например, догматики или патрологии. Как с помощью этих богословских дисциплин можно на практике приблизиться к той главной цели?
Научное познание - это лишь инструмент, который помогает использовать ресурсы разума. Мне лично наука помогла тем, что научила понимать человеческую речь. Для этого мне понадобилось почти двадцать лет, с восемнадцати почти до тридцати восьми. Конечно, в нашем контексте преимущественно важной оказывается не человеческая речь вообще, а тот голос святых отцов, который, как поётся в одном из песнопений, «посреде Церкви воспел песнь сличную богословия». Наука, если это хорошая наука, учит слушать и внимать. Она вырабатывает вкус, посредством которого ты учишься отличать «песнь сличную» от какофонии. Сегодня то, что мы называем православным преданием, лежит на наших плечах таким десятитонным грузом, с которым мы не знаем, что делать, и как в нём разобраться, потому что в нём всё собрано вперемешку, подлинное с ложным, главное с второстепенным. Наука предлагает доступный метод сортировки этого груза, она учит критическому мышлению, анализу, учит перерабатывать информацию и отсеивать ненужное. И это совпадает с тем, о чём учили многие отцы, в частности Григорий Палама, когда говорили, что наука нужна для обучения, но не как дело жизни. Разница лишь в том, что детям в Византии было нужно пять-десять лет для обучения, а нам требуется больше. И если исходить из понимания науки как школы, то есть среды обучения человеческой речи и мысли, то это значит, что такая школа предполагает выпускной класс, после которого начинается основная деятельность, то есть, по логике вещей, человек должен перейти к такой деятельности, приготовлением к которой служила школа. Поэтому, я думаю, что все разделы академического богословия ведут человека к тому, что святые отцы называли «деланием», то есть к богопознанию, достигаемому посредством аскетической практики и молитвы. Ни патристика, ни догматика сами по себе не самоценны, более того, когда человек занимается только ими, он бывает похож на пассажира, который всю жизнь пакует вещи в чемодан, но так и не отправляется в путь. И, кстати, очень многие пассажиры со временем даже забывают, что вообще хотели куда-то ехать. Поэтому академическое, или научное, богословие, если оно не предполагает дальнейшего пути, часто становится жизнью на привокзальной площади: люди расставляют палатки, обустраиваются, смотрят цены на билеты, изучают расписание поездов, - но так никогда и не отправляются в путь. Им нравится такая жизнь: она даже может превратится в иллюзию путешествия. А Евангелие - это путь в новый город, а не привокзальная жизнь в старом городе, коль скоро человек назвал себя пассажиром, то есть тем, кто отправился в путь, а христианин именно таков. Так вот, когда человеческий ум достаточно обучен мыслить, видеть и слышать, он начинает действовать согласно со своей природой, то есть созерцать логосы творения, промысла и суда, о которых говорит преп. Максим. Иными словами, обращаясь к творению или внутрь самого себя, он познаёт сокрытое действие Божие, видит Бога через это действие и восходит выше, непосредственно к Нему, то есть начинает молиться. Молитва - главное дело ума, самое свойственное для него занятие. Соприкоснувшись с действием Божиим в творении, познав духовное и догматическое учение Церкви о домостроительстве, совершаемом Богом в мире, человеческий ум начинает восхищаться от созерцания того блага, которое он видит в своём Творце, начинает благодарить и славословить Его. Он всё больше и больше ощущает, что необходимо благодарить Бога за всё: за жизнь, за творение, за окружающее, за бытие как таковое, и находиться постоянно в благодарности, не просто какой-то формальной, а глубинной, искренней, сыновней. И конечно, благодарность тождественна любви: чем больше мы благодарны Богу, тем больше мы Его любим. Таким образом, изучение богословских дисциплин, при надлежащем подходе, становится опорой, основанием для благодарности.
А если человек не интересуется теорией, а просто хочет бороться со страстями? Есть ведь такие люди, в том числе и среди монахов, которые просто хотят верить в Бога и исполнять Его заповеди.
Я думаю, это ложное противопоставление. Во-первых, я не знаю ни одного такого верующего, которому был бы неинтересен Богочеловек Иисус Христос, то есть который не старался бы узнать, каков Он, не читал бы Евангелие и не знал бы Символа веры, где учение - то есть теория - о Богочеловеке раскрыта в сжатой, но очень содержательной форме. Во-вторых, борьба со страстями невозможна без богословия. Святые отцы, жившие в эпоху Античности, как раз полемизировали с греками по этому поводу: они говорили, что философская жизнь (это именно то, что мы сегодня называем аскезой, или «борьбой со страстями»), которую хотят проводить греки, невозможна без исповедания Христа Богом. А вся тысячелетняя история раннехристианского догматического богословия - это, по сути, борьба за это исповедание. Кроме того, когда кто-то говорит, что борется со страстями, но при этом отвергает «теорию», то это похоже на то, как если бы он пытался войти в горящее здание с желанием потушить пожар, надел защитный костюм, приготовил брандспойт, но при этом посчитал излишним запастись противогазом и кислородом: он войдёт в здание и, не успев даже подумать о пожаре, задохнётся от дыма. Так вот, богословие - это кислород, без которого мы задохнёмся от дыма страстей, хотя тушим пожар мы, конечно, не теорией, а практическими делами. Надо просто понять, что заповеди – это как раз то, что дано для разума. Заповеди становятся критерием для суждения, критерием для действий и для оценки своих духовных состояний, - и так воспитывается вера. Поэтому Господь говорит: «Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите». И пророк Давид говорит: «Заповедь Господня светла, просвещающая очи». Когда мы начинаем исполнять заповеди, наш разум просвещается все больше и больше: чем больше мы исполняем заповеди, тем больше просвещается наш разум. Нельзя оторвать познание теоретических истин от тех же заповедей Священного Писания, того, что относится к рациональной сфере, того, что мы читаем, узнаём своим умом, нельзя это оторвать от опыта практической жизни. Если мы отрываем теорию от практики, то, конечно, происходит внутренний надлом, и мы теряем веру. Можно заниматься богословием и быть неверующим человеком. Таких людей очень много, по сути неверующих. С другой стороны, когда кто-то пытается сосредоточиться на практике, совершенно отвергая рациональную сторону человеческой жизни, то такой человек теряет критерии и ориентиры, данные разуму в Священном Писании, поэтому он часто впадает в совершенно дикое доверие к своим чувствам, своим состояниям. Нередко такие люди впадают в своего рода «всеверие», - и всё это превращается в поиск чудес и ложную мистику, которая крайне вредна. Думаю, что и подлинная вера при этом тоже теряется, она подменяется игрушечной верой, которая не является верой в Бога по сути, а просто является удовлетворением своей страсти и своей любви к самому себе.
Подводя итог нашей беседе, какое бы вы дали самое краткое определение богословию? Чем богословие является для вас лично?
Богословие – это практика осмысленной жизни в союзе с Богом.
- Да, действительно краткое определение. Но оно, наверное, нуждается в пояснении.
Несомненно. Эта практика требует не только интеллекта, но и всех сил души. Силы души, управляемые разумом, привлекают к такой жизни и тело - дают ему правило для повседневной деятельности. Мы все живём в преддверии смерти, которая открывает горизонт для мысли о вечности. А вечность – это Бог. Слова «вечность» и «Бог» тождественны: нет вечности без Бога. А Бог, которого мы познали, это Богочеловек Иисус Христос. Поэтому всё богословие сосредоточено на Нём. Нет триадологии без христологии, потому что нет Бога без Христа. Христос соединяет «расстоящиеся естества», как поётся в одном из песнопений: Он не только единосущен Отцу, но и является средоточием и смыслом жизни универсума, потому и назван Логосом. Богословие и возможно только потому, что Логос воплотился. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца»: эти слова апостола дают начало всякому богословию. Но исходное начало определяет весь путь - всё богословие - это учение о единосущии Отца и Сына, то есть по сути исповедание Христа Богом, и свидетельство о славе Божией, которая познана лично. А личное познание есть результат обращения, то есть практического действия. И наиболее глубоко и последовательно, по моему убеждению, эти три составляющих - обращение, исповедание и свидетельство - выражаются в монашеской традиции. Для меня монашество - это богословие, и богословие - это монашество.
- Вы сказали о том, что практическое действие – это обращение. Вы имеете в виду покаяние?
Да! Ведь с этого начинается Евангелие: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Царствие Божие - это Христос. Имя Христа - это то, что человек, переживший обращение, носит в разуме и в сердце, это имя переполняет всё его существо, всё мышление. Поэтому покаяние неотрывно от исповедания и свидетельства: покаявшись, мы свидетельствуем о Христе, становимся богословами. Я очень люблю одну стихиру, которая поётся Великим постом, - в ней богословом назван разбойник, который висел рядом со Христом и покаялся. В этой стихире смысл богословия передаётся предельно отчётливо: «Радуйся Кресте, имже познася единым мгновением разбойник богословец, взываяй: помяни мя Господи, во Царствии Твоем». Мы каемся в наших грехах, обращаемся ко Христу, принявшему за нас смерть на Кресте, и вслед за Ним принимаем свой собственный крест в подражание Ему - и через это открывается путь к богопознанию. Разбойник исповедал Христа Богом и Спасителем - и в единое мгновение стал богословом. Евангелие, и церковная традиция говорят нам, что иного пути к познанию Бога нет. И иного богословия, по сути, в Церкви нет. И вот этой верой во Христа, которая появляется через покаяние, а затем становится свидетельством и исповеданием, целиком и полностью пронизано всё Евангелие и все апостольские послания. Богословие, если оно подлинно, всегда приводит к этой непосредственной вере апостолов: «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Богословие учит видеть. Богослов, как Фома, влагает руки свои в ребра Христовы, и затем говорит: «Господь мой и Бог мой!»
Мне кажется очень интересным и важным то, что вы упомянули о богослужебной традиции. Часто можно наблюдать, что научная, или интеллектуальная, традиция богословия существует как бы в изоляции от церковной или богослужебной традиции. Но, очевидно, это должно восприниматься как нечто нераздельное.
Да, при определённом подходе это две стороны одного и того же. Научное исследование рождается от внутренней озабоченности, беспокойства, пробуждённого неким действием божественной любви, которое ещё не познано, не воспринято в полной мере - оно просто зовёт тебя взобраться на гору, с которой ты можешь наблюдать при свете божественного откровения деятельность Бога в мире. Удивление, которое руководит тобой, заставляет всё больше и больше устремляться к верху горы, задаваться вопросами. С каждым новым подъёмом пропадает тень, туман развеивается, всё больше и больше до тебя проникают солнечные лучи, параллельно открываются необозримые горизонты, от которых захватывает дух. Созерцание логосов промысла Божия рождает поток благодарности Богу, а благодарность переполняет душу любовью к Нему. И тогда ты можешь реализовать тот логос, или предназначение, ради которого создан, то есть славословить и воспевать Господа Бога твоего. Церковная гимнография именно такого свойства - она является итогом богословского познания, в ней отражено всё богословие Церкви, описаны все движения человеческой души, ищущей Бога. Славословие Бога - это совершенство человеческой деятельности. Поэтому богословие всегда начинается как удивление и заканчивается как славословие.
Протоиерей Александр Шмеман. Литургия Преждесвященных Даров
Священник берет Агнец (Святые Дары), освященный в предыдущее воскресенье и кладет Его на дискос. Затем, после перенесения дискоса с престола на жертвенник, он наливает вино в чашу и покрывает Святые Дары, как это обычно делается перед Литургией.
Надо сказать, что о «Левиафане» Звягинцева я узнал из рецензий в интернете, которые в последнюю неделю стали расти в геометрической прогрессии, причём одни авторы превозносили фильм до небес, а другие проклинали. При этом бросается в глаза, насколько сильно обострились чувства …
На Руси, как и в любой религиозной стране (например, в древнем Израиле или в той же Греции), духовенство - это не более совершенные люди, не какие-то необычные личности, а совершенно определённое сословие общества, наряду с другими сословиями. И хотя сегодня …
Люди, вовлечённые в политику, которые против коррупции и путина (со строчной буквы, т.к. олицетворение), все время говорят: «Вот вы якобы устранились от политической жизни и якобы наблюдаете со стороны, но сами-то и не понимаете, что тоже участвуете в политике. Вернее …
Святейший Патриарх Кирилл в своём докладе на открытии Архиерейского собора 2010 года ставил вопрос о том, почему новые поколения верующих не идут в монастыри, но, наверное, уже пора поставить вопрос о том, почему современные люди не идут в церковь. В …
Любой художественный текст подчиняется жанровым законам литературы, точно так же как определённым канонам следуют жития святых или церковная гимнография. Однако степень осознанности этого подчинения в художественной литературе гораздо ниже, чем в собственно религиозном творчестве, целью которого является не столько реализация …
Блог священника Андрея Дудченко
(20.05.2018)
Сегодня день памяти отцов Первого вселенского собора. За литургией читаются два зачала, в которых звучит тема христианского единства: обращение ап. Павла к Эфесским пресвитерам и часть Первосвященнической молитвы Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна. «Соблюди их во имя Твое… чтобы …
(06.01.2018)
У день Різдва Христового за літургією читається уривок з Послання ап. Павла до Галатів, на який, на жаль, рідко звертають увагу: Браття, коли настала повнота часу, послав Бог Сина Свого (Єдинородного), Котрий народився від жони, був під законом, щоб викупити …
Использование в любой форме материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии активной ссылки на . Редакция не предоставляет справочной информации. Редакция может не разделять мнения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются. Обратная связь: [email protected] . Отправка статьи или любого материала на данный адрес означает согласие с тем, что материал может быть опубликован на сайте с указанием имени автора, безвозмездно и без ограничения срока публикации. Публикация материала подразумевает необходимую стилистическую правку текста, включая заголовок. Редакция не выплачивает гонорары. Отправитель материала несет ответственность за соблюдение авторских прав (непосредственно является автором либо высылает материал с согласия автора). При отправке материала просим указывать контактную информацию. В случае предъявления автором претензий редакция имеет право передать такую информацию автору.
Надо сказать, что о «Левиафане» Звягинцева я узнал из рецензий в интернете, которые в последнюю неделю стали расти в геометрической прогрессии, причём одни авторы превозносили фильм до небес, а другие проклинали. При этом бросается в глаза, насколько сильно обострились чувства у людей со специфически «патриотическим» сознанием: снова это ощущение обиды, плевка в душу, ощущение, что наврали о христианстве, оболгали Родину — её и так поносят и хотят втоптать в грязь, а тут ещё это злосчастное кино. Говорили так же и о заказном характере фильма, о его нацеленности на западную аудиторию, ожидающую «хорошее» кино о «плохой» России... Но когда два дня назад появился остервенелый и совершенно дикий отзыв протоиерея Георгия Крылова на приличном сайте «Богослов.Ru», в котором автор сжигал не только диски с фильмами и самого режиссёра, но и всю русскую литературу заодно, а потом постепенно перешёл на язык неконтролируемого потока сознания, так что я даже усомнился в здравии и психологической вменяемости отца протоиерея вследствие пережитого стресса от просмотра фильма..., — тогда я понял: надо смотреть!
Фильм начинается со сцен неописуемо красивой природы и захватывает с первых кадров. Остатки брошенных судов на берегу соседствуют с величественным скелетом кита, когда-то выброшенного на берег, а полуразвалившиеся пятиэтажки — с непоколебимой и словно бы не подверженной тлению северной природой, скалами и заливами, прибрежными насыпями и вечным северным морем. Когда нет претензий и позирования перед публикой, когда художник не выдаёт свой стиль за язык бытия, а позволяет бытию говорить на его собственном языке, тогда зритель откликается не на какие-то надуманные теории и идеи автора, а встречается с самой действительностью, и всякий раз такая встреча происходит у каждого человека по-своему. Происходит нечто неуловимое, но единственно важное, какое-то изменение, сдвиг, некое экзистенциальное событие. Это параллельное существование личной драматической истории и вечной не изменяющейся природной стихии, живущей своими законами, красной нитью проходит через весь фильм и, кажется, намеренно подчёркивается режиссёром. Мне это напомнило точно такое же ощущение в книге «Море, море» Айрис Мёрдок. Когда в середине фильма, в один из кульминационных моментов, главная героиня, решившаяся на отчаянный поступок, приходит на берег, на фоне её лица, показанного крупным планом, в море выныривает и плещется огромный кит, который, несомненно, символизирует Левиафана. Морской кит, напоминающий о чудовище-Левиафане, как символ, отражает внутреннее воздействие Левиафана невидимого, выбирающего жертв по собственной прихоти.
Развитие сюжета идёт настолько динамично, что удерживает всё внимание на протяжении 120 минут. Причём, если вначале сюжет раскачивается неторопливо, как будто хочет обмануть неискушённого зрителя картинами ландшафта и заболтать его бдительность семейными неурядицами и сценами пьянства, то вторая половина фильма развивается в темпе остросюжетного триллера. Сильнейшие образы, особенно в исполнении Серебрякова, заставляют погрузиться куда-то на глубину и в этой глубине видеть личность во всём её измерении, в её падении и незащищённости, в страдании и надежде. И на этой глубине естественным образом рождается вопрос о Боге.
Некоторые рецензенты (особенно прот. Крылов) сетовали на то, что в фильме «ничего не сказано о Боге». А мне показалось, что главная тема фильма — это Бог. Нет, не судьба Иова, не государство, ставшее Левиафаном, не сложности криминальной России, не лицемерие церковников. Это всё фон и предпосылка для главного вопроса, который, кстати, прямо задаёт в одном из эпизодов герой Серебрякова: «Где твой Бог?» И ему отвечают: «А ты какому богу молишься?» И это даёт указание на то направление, в котором следует искать ответ. Можно заметить, что на протяжении фильма герои постоянно задают друг другу в разных ситуациях один и тот же вопрос: «Ты веришь в Бога?» Но никогда не звучит прямого ответа, ни утвердительного, ни отрицательного — собеседники лишь пожимают плечами, либо отговариваются («я верю в факты»), указывая на неуместность вопроса. Однако всегда создаётся ощущение некоей недосказанности, неловкости, посредством которых обнаруживается провал в подсознание, где этот вопрос живёт и не даёт покоя, даже нарывает, образуя гнойники. Здесь симптоматичной оказывается роль официальной церковной власти: она, насколько это видно из фильма, единственная, кто не задумывается над этим вопросом и у кого ничего не болит. Эта рана мучает алкоголика, мучает изменницу-жену, даже бандюгу-губернатора (он тоже задаёт такой вопрос). Она тревожит и простого сельского попа. Но когда начинает говорить митрополит, и в финале это звучит ужасающим аккордом, всякий вопрос о Боге словно исчезает. Словно его и не было никогда. Не было трагедии, смерти, слёз, преступлений. Не было греха и искупления. Словно Христос не воплотился.
И после этого заключительного аккорда мы снова видим безмолвие природы. И теперь это уже переосмысленная природа. Природа, тихо и смиренно, как Бог, присутствовавшая при всех событиях в рассказанной истории. Мы поднимаемся на новый уровень и видим, что Левиафан, пожирающий этих людей, меняет маски, преобразуется, пожирает каждого своим собственным способом. Но за всеми этими масками стоит настоящий Левиафан — утрата веры, безверие. Левиафан вздымает свою гриву, когда на зов этих грешников, алкоголиков, блудниц и убийц, Церковь отвечает пустой риторикой, усыпляющей совесть, помпезными шествиями, грандиозными стройками. Она ослеплена лучами Левиафана — научилась играть, сидя у него на брюхе, и даже не замечает, что первой устремляется с ним на дно. Левиафан — там, где вместо рыбы даётся камень, где вместо веры — лицемерие. Где вместо хижины Иова — белокаменный храм.
Заключительные виды природы говорят о присутствии. Безмолвный океан больше может сказать о Боге в этой казалось бы печальной истории, чем богоустановленные институты, продавшие себя в рабство за лесть и похвалу. Так получается, что океан дарит надежду. Бог сильнее Левиафана, даже если в жизни, как у Иова, всё оказывается во власти последнего.
Недосказанность в фильме только видимая. Мне кажется, фильм пробуждает веру. Веру в совесть, веру в святость, веру в чистоту души. Веру в Бога. Драма, раскрытая в фильме, только кажется личной или социальной. На самом деле это универсальная драма, в которой обнажаются исконные для человеческой души противоречия, свидетельствующие о возложенном на неё бремени выбора между добром и злом.
Есть поговорка, что молодца и сопли красят. Такими «соплями» в фильме оказывается совершенно неправдоподобное изображение духовенства. Карикатурный митрополит то и дело за столом наставляет губернатора на верный путь вымученными и как будто бы написанными заранее фразами, которыми нормальный человек не выражается. Приходской священник сходу начинает, как безумный, цитировать встретившемуся алкоголику пассажи из Библии… (Переписать бы эти эпизоды, я бы даже согласился сыграть митрополита для правдоподобности!) Во всяком случае, неудачность этих эпизодов, мне кажется, не случайна: она органично вписывается в общий экзистенциальный подход режиссёра к реальности. И в этой реальности нет места таинственному бытию Церкви, коль скоро фильм не выражает — и не может выражать — подлинного богословия спасения. Поэтому здесь и не надо искать того, чего в этом фильме нет. Но то, что в этом фильме есть, крайне необходимо усвоить сегодня в первую очередь верующим. Режиссёр не подводит к осмыслению отношений между Богом и миром в перспективе церковного бытия, потому что он не богослов; но он показывает, как все эти страдающие и погибающие души попадают в водоворот, устроенный Левиафаном, если Церковь отсутствует. Если она изменяет своей сущности и выступает в роли самого Левиафана. История бесконечно повторяется: именно Церковь в лице своих служителей снова и снова предаёт и распинает Христа. Режиссёр всеми возможными средствами пытается лишь указать на то, что эта проблема актуальна и современна.
Ещё хочу сказать, что многие рецензенты писали о различных несостыковках в сюжете, о нелепом поведении героев, о несовпадениях с «Книгой Иова» и другими библейскими персонажами, об искажении российской действительности, церковной действительности, и прочее. Я всё это оставляю за скобками, потому что эти копания не дают ни малейшего шанса к тому, чтобы приблизиться к пониманию той задачи, которую ставил перед собой режиссёр и которую он выполнил блестяще. В данном случае правда — это то, что говорит автор и художник. И от этой правды только и стоит отталкиваться.
Тому, кто не смотрел фильм, советую никого не слушать, не читать возмущённых отповедей и рецензий, дышащих праведным гневом и обидой на затронутые «святые чувства», и обязательно посмотреть. После просмотра становится абсолютно ясно, что режиссёр не рассчитывал ни на какие награды, а спокойно снимал то, что ему важно, и рассказывал о том, что для него дорого. В фильме Звягинцева нет никакой обиды для России, потому что показанная действительность, хотя она может быть и утрированна в некоторых моментах, касается не России, — она касается всякого человека, независимо от национальности и страны проживания. Европейские и американские режиссёры уже давно во множестве снимают подобные социальные драмы, и это свидетельствует о зрелости общества, в котором эти фильмы появляются. Но такого универсального размаха, как в «Левиафане», я всё-таки не встречал. «Левиафан» — это очень зрелый фильм. Это честный и ответственный фильм о Боге и о вере. Это фильм о духовной реальности и о том, в каком отношении к этой реальности находится современный человек.
Для меня этот фильм — праздник.
Дельное интервью монаха Диодора (Ларионова)
об «Исповеди бывшей послушницы» Марии Кикоть.
Несколько отрывков из сего интервью:
"Могу сказать, что для меня совершенно неожиданным открытием в монастыре было то, что один человек может просто совершенно безумно, очень громко и в течение получаса кричать на другого человека. То есть настоятель на братию. В чём-то они провинились, например, кто-то не вовремя попил чай, кто-то замешкался на послушании и куда-то не успел, у кого-то не такая походка, у кого-то взгляд не такой, какой мог бы понравиться настоятелю… Не то, чтобы какие-то серьёзные нарушения, а вот такие мелочи. И вот, он может их выстроить в ряд перед храмом, ходить, как прапорщик, перед ними и в течение часа очень громко и остервенело кричать. Когда я слышал это первые несколько раз, просто смеялся - мне казалось, что это какая-то шутка, что такого не может быть на самом деле. Но это было в реальности.
Происходило что-то серьёзное, психические заболевания?
Да, конечно. Нездоровое отношение настоятеля, проявляемое в гневе и подозрительности, например, сильно выматывает подчинённую личность, которой даже некуда спрятаться - человек всё время на виду и всё время под «прицелом». Это приводит к акцентуации в поведении, к нервным срывам. Человек всё это подавляет, держит в себе, но здоровье его постепенно расшатывается. И это переходит в постоянные хронические неврозы.
У монахов, которых я видел, со временем это стало проявляться, например, в резких скачках давления и сердцебиении при любом внезапном испуге, при громких звуках, при резких движениях… Были случаи госпитализации в психиатрическую клинику, когда у одного послушника вследствие таких условий и отношения случился приступ, начались галлюцинации и серьёзные психические нарушения. Один иеромонах, который долгое время подвергался унижениям и издевательствам со стороны настоятеля, со временем стал заговариваться, путать слова, резко менять суждения на противоположные - в зависимости от того, чего от него ждут, испытывать перепады настроения, то смеясь, то неожиданно погружаясь в депрессию, и так далее.
В таких условиях создаётся атмосфера внутренней созависимости, когда одному требуется постоянно унижать других, но при этом он ощущает себя жертвой, а другим необходимо быть унижаемыми, но при этом они осознают себя мучителями. Думаю, это действует, как наркотик, который атрофирует некоторые части душевных реакций и мышления.
В «Исповеди» очень хорошо и последовательно описаны ситуации, которые, как правило, приводят к тем результатам, о которых я рассказываю. В мужских монастырях такие вещи влекут за собой, как правило, алкоголь - люди начинают всё время думать о спиртном как о празднике, который освобождает на какое-то время от невыносимой реальности и вообще смягчает нервное напряжение. В женских монастырях, видимо, это приводит к употреблению лекарств и даже, как описано в «Исповеди», сильнейших седативных средств и антидепрессантов.
Но это крайне опасно: влияет на мозг, искажает восприятие реальности и приводит к нарушениям психического характера. О таких вещах обязательно надо писать и публично их обсуждать - как только становится известным о принятии таких средств монахами, нужно бить тревогу.
Поэтому очень странно слышать тех, кто не был в таких условиях, и говорит о тексте, что в нём якобы содержится клевета и неправда. Там всё чистая правда.
Не хуже, чем у греков
Монастыри в постсоветское время были основаны совершенно спонтанно. Туда ставили настоятелями людей, которые имели какие-то организаторские способности, лидерские качества, умели объединить вокруг себя, но совершенно не представляли себе сути духовной традиции. Даже не понимали, что такое монашество. Потому что сами в монастырях до этого никогда не жили, или жили в таких, которые мало напоминают традиционный монастырь восточной традиции.
Даже сегодня это продолжается: «советская» традиция рукополагать всех монахов в священный сан без долгого опыта жизни простым монахом утвердилась в наших монастырях повсеместно. А тогда в Печоры по несколько тысяч человек приезжало на праздники. И всех же нужно исповедовать, все хотят причащаться. Поэтому всех монахов поголовно, за исключением каких-то больных и дурачков, рукополагали в иеромонахов. В женских монастырях, думаю, в советское время было получше. Но, тем не менее, всё равно, монашеская традиция у нас после революции прервалась.
А что изменилось в советское время?
Избрание игумена монахами также было отменено. То есть была упразднена традиция отношения к игумену как духовному руководителю, ведь духовного руководителя невозможно «назначить», его можно только добровольно выбрать, и так далее.
Фактически, монастыри стали «большими приходами», или в некоторых случаях, так скажем, «фермами» для обеспечения нужд епархии. А потом, когда в 90-е годы были открыты новые обители, все эти люди неожиданно стали назначаться игуменами и игуменьями.
В 90-е годы в монастыри был большой приток людей. И через несколько лет половина всех тех, кто пришёл, ушли из-за неустроенности внутренней монашеской жизни.
И потом роковую роль сыграла Греция. «Наместники» и настоятельницы стали туда ездить и наблюдать, как там хорошо организована монашеская жизнь. И решили позаимствовать некоторые элементы устава, чтобы показать, что они не хуже греков. Но в том-то и дело, что можно было бы учиться от них, а наши игумены и игуменьи, которые считали себя достаточно знающими, по-настоящему учиться не захотели. Таких похожих историй очень много: когда «наместники» и настоятельницы монастырей хотели перенести что-то греческое в свою среду и брали только то, что им понравится.
В «Исповеди бывшей послушницы» рассказывается об откровении помыслов. Игуменья увидела, как в греческих монастырях практикуются откровения помыслов (видимо, греческие старцы говорили ей, что это полезное дело). Вот она и решила тоже это всё использовать, ввела в своём монастыре откровение помыслов. Стала требовать абсолютного послушания. Но вместо пользы это обернулось вредом, привело к ещё худшим последствиям, потому что это всё применялось внешне, но совершенно не было попытки понять суть по-настоящему, разобраться, чем дышит восточное монашество, чем оно живо. Не было понимания того, что вот эти внешние факторы - откровение помыслов или послушание - не являются чем-то исключительным и самодостаточным. Они являются чем-то, что входит в общий контекст жизни.
Вы хотите сказать, что они просто повыдёргивали отдельные правила из контекста?
Вот именно. Если эти принципы вырывать из контекста, они начинают работать во вред. Принцип послушания важен, да, но он важен именно в ряду других добродетелей. Причём это душевная добродетель, одна из самых высоких. Человек, пришедший в монастырь, не может с первого дня иметь абсолютное послушание. Он ещё этому не научился. Опытные монахи на Востоке видят это, своим примером и любовью показывают монашескую жизнь, учат человека иметь не только послушание, но и другие добродетели: молитву, любовь, смирение, кротость, долготерпение, благость, милосердие, веру. И послушник естественным путем, постепенно приобретает более высокое понятие о послушании. В конце концов эта добродетель становится второй его природой. Выправление своей воли по воле Божией - тонкий и деликатный процесс, который сродни профессиональному освоению сложной научной дисциплины. Это работа, которая длится десятилетиями.
Если начать требовать ни с того, ни с сего абсолютного послушания от человека, который даже не понимает элементарных вещей, не научился исполнять не только заповедей Христовых, но и простых норм общечеловеческой морали, такой человек либо надрывается, противится этому и впадает в уныние, либо же начинает имитировать послушание.
Я думаю, большинство проблем в таких монастырях возникает от того, что люди имитируют эти добродетели. У послушания есть такой эрзац, искажённая копия, которая внешне похожа, но на самом деле является его противоположностью. Это то, что называется человекоугодием или лестью.
То же самое с откровением помыслов: под видом откровения помыслов, как об этом рассказывается в «Исповеди», сёстры пишут о других сестрах. И постепенно это становится ябедничеством. Из хорошего дела получается противоположное. Настоятель, который это начинает делать, думает, что он вводит что-то хорошее. Но он же тоже человек, у него тоже изменяется что-то внутри. Проходит несколько лет, и ему кажется, что он всё сделал как надо. На самом деле, постоянная лесть и человекоугодие его тоже изменяют. Конечно, настоятелю льстит думать, что в его монастыре всё по греческим уставам, не хуже, чем у греков. Он видит подтверждение этому в тех людях, которые ему льстят. Он как бы смотрится в зеркало, слушая только тех, кто привык ему постоянно поддакивать. И тогда начинается следующий этап, который может закончиться очень плачевно. Это этап серьёзных душевных расстройств, чему я был тоже свидетелем и о чём мы выше говорили.
И мне кажется, что вот этот текст, который я читал, «Исповедь бывшей послушницы», очень хорошо изображает ситуацию, когда под монашеством подразумевается всё что угодно, только не само монашество. Я это называю мышиной вознёй, когда происходят такие страсти и интриги, когда игуменья не понимает сестёр, сёстры боятся игуменью, с подозрением относятся друг к другу. В женских монастырях доходит даже до какого-то абсурда: в «Исповеди» описаны попытки угрожать друг другу откровением помыслов. В такой атмосфере сложно сориентироваться. Но это не является невозможным, если есть голова на плечах. Проблема тут ещё ведь в отсутствии головы…
Сложилось представление, будто в монастыре так и должно быть: дескать, не будет скорбей, не будет и спасения. Считается, что такая жизнь - не для слабонервных.
Да, согласен, в России прижилось мнение, будто в монастыре должно быть невыносимо. На самом деле, это не норма, это извращение. И исправить всю эту ситуацию, кажется, очень сложно, вообще, невозможно. А я, когда читал «Исповедь бывшей послушницы», подумал, что исправить это легко - стоит проявить хотя бы капельку любви. И эта маленькая капелька любви может проявиться в обычном человеческом доброжелательном отношении к другому. Повседневная жизнь может состоять из простых проявлений любви… Если бы такие проявления появились в жизни этих монахинь, мне кажется, всё могло бы сразу кардинальным образом измениться.
Монастырь часто представляется группой людей, которая существует непонятно ради чего вообще. Люди в чёрных одеждах зачем-то собираются вместе, для совместного проживания, при этом очень трудно друг с другом взаимодействуют, все относятся друг ко другу с недоверием. Сёстры боятся матушку, которая тоже боится сестёр и всё время что-то подозревает. Эти отношения складываются в такой клубок страстей. Эта ситуация кажется совершенно безысходной. Но если кто-то в этот момент возьмёт и поймёт, кто мы такие, зачем мы тут собрались, ситуация сразу же перестанет быть безысходной.
Я бы сказал, что такая ситуация очень напоминает тоталитарную секту, но слово «секта» тут можно употреблять чисто метафорически. Тоталитарные секты чем отличаются от других групп? Тем, что их лидер себя объявляет основателем новой религии. И присутствие какого-то особого вероучения - очень важный элемент секты. Здесь этого нет. В монастыре придерживаются всех догматов православия, но, тем не менее, в отношениях есть тоталитарная составляющая. Я бы сказал, что это скорее тоталитарная группа внутри Православной Церкви.
Чем такая система плоха для монашеской жизни?
Тем, что настоятель, который действует методами абсолютистской власти, как монарх, который владеет телами и душами своих подчинённых, лишает монахов, абсолютно во всём следующих его мнениям и даже капризам, возможности становиться зрелыми личностями. Здесь происходит опасный психологический надлом. Большинство из тех, кто составляет «костяк» подобной общины, приходят в эту общину молодыми. Потом они вырастают телесно, но внутренне остаются на том же уровне, на котором были, когда пришли. Они ничего не могут сделать без своего настоятеля, даже поговорить с другим человеком.
Инфантильность - это болезнь. Это не просто «человек не созрел». Нельзя, будучи взрослым, оставаться с сознанием ребенка. Должно быть сознание взрослого человека, ответственность за свои поступки. А человек, который вырос, но имеет сознание ребенка, не способен отдавать себе отчёт о своих поступках, принимать решения. Поэтому, когда происходит испытание, требующее поступка, связанного с моралью, они теряются и не знают, что делать.
Например, настоятель говорит всем, что нужно солгать «спонсору» или «нужному» паломнику и сказать, что у нас строгий распорядок, что мы просыпаемся ночью в два часа, служим полунощницу. Такого нет, но все говорят, что так и есть, потому что считают, что батюшка лучше знает, - раз он так сказал, значит, так надо. Они не могут, как взрослые люди, отдавать себе отчёт в своих поступках. Они делают всё «по послушанию». Потому что привыкли считать, что батюшка за них всё решает.
Обмануть кого-то, совершить неблаговидный поступок, например, оклеветать ближнего, «ради его исправления», подделать документы, что-то украсть, любить кого-то или неожиданно возненавидеть - они на всё готовы, потому что атрофируется сознание взрослого человека, понимающего, что такое добро и зло. Воспитывается определённый тип личности, психологически неполноценный, который ограничен в моральном суждении.
Это очень большая опасность. И она всегда присутствует там, где есть претензия на «духовность». Я считаю, что в России, если вводить абсолютное послушание и откровение помыслов формально и ничего не делать с духовной точки зрения, не иметь любви и рассуждения, не воспитывать личности в заповедях Христовых, эти личности будут превращаться в манипулируемых, управляемых людей, совершенно безответственных, которые способны совершенно на всё. Они будут превращаться в людей без морального сознания. Сделают любую подлость и пойдут на любое преступление, потому что батюшка так говорит, потому что матушка так говорит. С христианской точки зрения происходит то, что образ батюшки и матушки заслоняет собой образ Христа. Постепенно Христос исчезает за ненадобностью. Его просто не существует в личном горизонте такого человека. Всё определяет батюшка или матушка".
Последнее время в ряде светских СМИ идёт активное обсуждение вопросов отношения между Церковью и обществом. Предлагаем вниманию читателей статью монаха Диодора (Ларионова), в которой автор делится своим богословским взглядом на проблему.
Святейший Патриарх Кирилл в своём докладе на открытии Архиерейского собора 2010 года ставил вопрос о том, почему новые поколения верующих не идут в монастыри, но, наверное, уже пора поставить вопрос о том, почему современные люди не идут в церковь. В данной статье представлена попытка искать проблему внутри христианской общины, а не вне её: нет смысла упрекать мир за то, что ему что-то не дала Церковь.
Изменение культурной и духовной атмосферы в стране в последние годы, несомненно, наложило отпечаток на верующих, не исключая, конечно, и пастырей. Согласно заповеди Евангелия, они должны посредством внутреннего преображения изменить внешнюю реальность, сделать её Церковью, но это лишь дальняя, «стратегическая» задача: в настоящем же своём состоянии верующие приносят в церковь те болезни, которыми поражена внешняя социальная среда; и, разумеется, болезни церкви сродны болезням эпохи. Но иная Церковь, будучи духовным Телом Христа, источником благодати и таинств, не видна внешнему наблюдателю. И это, помимо всего прочего, порождает вопрос о внутренней идентичности Церкви. Внешний взгляд легко видит болезнь, но не легко может понять, где источник здоровья. Попытка определить проблему, поставить некий предварительный «диагноз» в ситуации, когда светское общество требует от Церкви высокой морали, но одновременно ищет её болевые точки (по сути, зеркально представленные в нём самом), чтобы удобнее пройти мимо главного, никак не может быть излишней. Данные наблюдения сложились в некий комплекс идей, имеющих отношение к тому, что тревожит, на мой взгляд, каждого верующего сегодня, напрямую касается его жизни, знает он об этом или не знает. В этом комплексе идей я выделил бы два основных вопроса: вопрос о смысле христианского свидетельства и тесно связанный с ним вопрос о смысле наставничества, учительства. В контексте этих двух вопросов мы и рассмотрим вкратце тот клубок проблем, который порождается вышеупомянутыми связями и отношениями между церковью и миром.
Вот что важно отметить в первую очередь: многим людям, независимо от того, принадлежат они к церкви или нет, сегодня невозможно без огорчения смотреть на тех, кто дерзает говорить от имени христиан. Трудно слышать мёртвые речи, в которых отсутствует смысл. Трудно понять действия, в которых нет христианской логики. Внутреннее чувство подсказывает любому человеку, что существует такое понятие, как благообразие, которое подразумевает соответствие внешнего вида внутреннему расположению души. Когда же видишь во внешнем претензию на благообразность (длинная с проседью борода, золотое облачение с крестами), слышишь речь о Боге, но в то же время читаешь на этих лицах совершенно иное, то становится поистине страшно. Этот образ настолько чужд человеческому достоинству, что, когда осознаёшь это, становится не по себе. Почему так получается?
Человек похож на Бога: он многое готов простить - немощь, падение, грех, - за исключением лицемерия. То, что Христос называет хулой на Святого Духа, в обыденной жизни, на уровне простого обывателя, называется лицемерием. Этот грех нельзя простить, потому что это посягательство на некую внутреннюю святыню: когда отнимают святое, не остаётся вообще ничего, - а так человек жить не может. У нас сегодня встречаются священники, которые взяли моду всем доказывать, что они «тоже люди». Это означает, что им не чужды человеческие слабости, грешки, вредные привычки и ошибки. Но за этой апологетикой на самом деле скрывается двусмысленность: одно дело, когда священник согрешает в силу человеческой немощи, но приносит искреннее покаяние перед Богом, и другое дело, когда образ его жизни становится проповедью «иного евангелия». Пьяного, но кающегося попа русский человек уложит спать и накроет одеялом, чтобы не простыл, а наблюдая за попом, который на протяжении многих лет открыто лжёт, русский человек не выдерживает: в один прекрасный момент он берёт вилы и идёт выкалывать глаза иконам. Лицемерие служителя истины способно оттолкнуть от самой истины.
У каждого человека изначально внутри есть святой угол (у кого-то он ассоциируется с Богом, у кого-то нет). Но поскольку люди подобны друг другу и имеют одни и те же способы и средства постижения реальности, то и охарактеризовать святыни каждого человека можно в неких общих понятиях: правда, добро, красота и т.п. Тем не менее, отношения с этими общими понятиями у каждого остаются личными. Церковь не должна забывать, что действуя в той области, которая относится к духовной жизни, она касается личных человеческих отношений с истиной, добром и красотой. Поэтому и возникает вопрос о её представителях, то есть учителях церкви, и их полномочиях. Верующему известно, что Церковь ставит определённых людей, отличающихся добродетелями и ревностью к истине, чтобы помогать восстанавливать в людях то внутреннее равновесие, которое у них утрачивается вследствие грехопадения. Священник, имея отношение к личной истории другого человека, по сути допущен к чужой тайне: ведь внутренний святой угол, если он оказался разорён, восстанавливает Бог, а не он, но его присутствие важно как человека более опытного и разбирающегося в настройках «механизма» связи человека и Бога. Отсюда понятна практика всех мировых религий (не только христианства), а также всех видов искусства, которая выражается в институте наставничества, учительства. Везде и всегда на пути к познанию общих понятий и ценностей, на пути развития внутреннего дара и таланта, на пути возрастания (духовного, душевного или телесного, не важно) присутствует связь учителя и ученика. И это обосновано прежде всего превосходством и опытностью учителя. Но путь проходит ученик. «Мастер» и «ученик»: эта модель идёт из глубины веков и присутствует в любых человеческих искусствах и науках. Искусству нельзя научиться по книгам: надо работать с мастером, делать как он, слушать его критику, исполнять его волю, - а затем приходит собственное мастерство и свобода, которая выражается в умении пользоваться своим даром. Точно так же происходит и в духовной жизни, которая тоже есть искусство - «искусство искусств и наука наук», по выражению отцов Церкви. Странно было бы думать, что в церкви и христианской жизни может быть иначе. Только акценты в отношениях должны быть расставлены по-другому. Я уже давно думал, но тут ещё раз убедился в том, что по существу более правильным было бы такое положение дел, когда не прихожане целуют руки священникам, а священники целуют руки прихожан (как это нередко можно увидеть, например, на Афоне). Потому что уважение к внутреннему миру другого человека и его личным отношениям с истиной настолько важны, что являются в данном случае определяющими.
Неприятно, когда лгут, однако совсем другое дело, когда ложь открыто называют правдой. Кажется, что это невозможно - ведь, как мы говорили, у каждого есть общее с другими людьми понимание истины, правды и красоты. Но на самом деле открыто называть ложь правдой возможно благодаря такому инструменту, как идеологическая пропаганда. Идеологическая пропаганда - это подмена в иерархии ценностей. Ведь лжи как таковой не существует (потому что зла онтологически нет, это небытие): существует лишь перестановка сказуемых, предицируемых не к тем объектам (подлежащим), которые соответствуют им по природе, и эта предикация порождает извращённую аксиологию. Суть её заключается в том, что менее значимая истина оказывается на более значимом месте, а более значимая - на менее значимом. Если довести эту схему до предела, то мы получим, что в результате такой подмены Бог становится самым незначительным в общей системе ценностей, тогда как во главе пирамиды ставится иная ценность - идол. «Их Бог - чрево», говорит апостол (Флп. 3, 19), и эту метафору мы можем использовать в любом интересующем нас случае. Но перестановка ценностей была бы заметна, если бы о ней так и говорили, как о подмене: задача идеологии как раз и состоит в том, чтобы сказать об относительной истине так, чтобы от этого как бы «выигрывала» абсолютная истина. Самый упрощённый пример: священник, порабощённый сребролюбием и тщеславием, убеждает себя (а затем часть идеологически верной ему аудитории) в том, что ему можно иметь роскошную машину на том основании, что, во-первых это вовсе не роскошная, а просто хорошая, качественная машина (ведь «главное» для него не роскошь, а средство передвижения), а во-вторых, без такой качественной машины ему трудно осуществлять тяжёлое, возложенное на него служение - трудно чуть ли не до такой степени, что роскошь превращается в его представлениях едва ли не в самый необходимый, «насущный» (понимаемый в соответствии с молитвой «хлеб наш насущный даждь нам днесь») предмет, без которого его служение Богу (не забываем, что абсолютная истина фиктивно первенствует) весьма затруднительно.
Другим, очень действенным, орудием идеологии является страх. Страх - это внутреннее оружие, которое обращено к своим: отработаны рычаги, с помощью которых человек, когда-то пришедший в церковь в поисках спасения от лжи, зла и уродства по зову сердца, прозвучавшему из «святого угла», в определённое время и в определённых обстоятельствах начнёт говорить ложь, оправдывать зло и создавать тем самым вокруг себя уродство. И он это делает только потому, что им обладает страх. Подсознательный, рефлективный, близкий инстинкту самосохранения, а потому трудно распознаваемый страх, гнездящийся в неизведанных глубинах подсознания. Благодаря страху люди становятся рабами, потому правильно замечено, что любая тоталитарная идеология неотделима от рабства. Поскольку христианство есть религия свободы, то, конечно же, его аскетика - как в теоретической, так и в практической части - ориентирована на то, чтобы работать на этом уровне и постепенно осознавать сковывающий нашу душу страх, учиться управлять им и освобождаться от него. Но аскетика аскетикой, а семейные ценности, общественное положение, кусок хлеба, наконец, делают за человека автоматический выбор. Выбор инстинкта. Ну нельзя же от всех требовать непременной жертвенности, причём в условиях России (которая предоставляет для этого широкие возможности, причём в любой отрезок истории), ведь к жертве способны немногие, а к великой жертве - единицы. Чем ты выше, тем больнее падать. Но тут встаёт закономерный вопрос об ответственности: скажи-ка, батюшка, насильно ли влекли тебя на столь высокую должность, которая стала твоим проклятием, засушив твой язык и лишив зрения и слуха? Не сам ли ты стремился к ней, увлекаемый тщеславием и просто детской глупой самоуверенностью? Ты думал, что Христос ничего не потребует взамен? Ты думал, что будешь просто «миссионерствовать» (по-русски говоря, разглагольствовать о том, какая «радость» и какое счастье быть православным), думал, будешь рассказывать людям сказки о пастухах и звёздах, цитировать Честертона и Льюиса, толковать «Властелина колец» и «Матрицу» в христианском ракурсе, - и на этом твоя миссия окончится? Так ты угодишь Богу? Но вот что тебе следует осознать: незаметно для самого себя ты стал лжецом, обманщиком и лицемером. Ты этого не хотел, оно так случилось как будто бы помимо тебя самого. А ты продолжаешь жить, будто ничего не произошло, будто солнце так же светит, как и раньше, в детстве, когда ты смотрел на него чистыми и ясными глазами, ещё способными отличать правду от лжи...
Поскольку у самого человека не всегда правильно расставлены внутренние приоритеты, то он легко попадает в клещи идеологической машины. Проблема ещё осложняется тем, что источник, который призван сломать его нарушенную координацию, представляется ему в виде формального института, сообщающего формальную правду. А формальная правда имеет свойство усыплять: ложь хорошо воздействует на спящего. В какой-то момент он, конечно, может пробудиться, и тогда перед ним встанут очень большие и очень важные вопросы. Этот момент у человека я называю «вторым крещением». Тут он понимает, что с этим всем надо что-то делать, что надо как-то повернуться к своему святому углу и побыть там наедине с собой, определить свои координаты в духовном пространстве жизни. К сожалению, это очень трудный момент, который многие пропускают: гораздо легче жить, не замечая происходящего, ведь жизнь протекает как песок сквозь пальцы, и ты иногда даже не можешь остановиться. Кроме того, спать легче, чем бодрствовать, и многие предпочитают крепкий и здоровый сон воспалённому и шизофреническому бодрствованию, ведь бодрствовать практически невозможно, если пытаться служить двум господам. Сегодня часто можно наблюдать картину, когда человек (священник) хочет последовать за Христом, понимая, что в Нём истина, и в то же время опасается Его, опасается истины, ведь она способна отнять у него то, что он любит и к чему привязан сердцем своим. Поэтому он говорит несущественную правду, ту, которая «успокаивает» его совесть, а о главном сказать не может, и потому постоянно ищет возможности прикрыть тотальную ложь, которая владеет его жизнью. Он много говорит о Христе, о любви, о добре, проявляет повышенную активность в социальном и миссионерском служении, но чувствует, что совесть его нечиста, потому что ему хочется разобраться с главным, которое его тревожит, но этого сделать он не в силах, потому что иные ценности владеют его душой. И он тогда приводит самому себе (и людям, которые приходят к нему с вопросами) цитаты из Писания в защиту неправды и рабства, понимая, что лжёт. И снова оправдывает свою ложь, и снова ищет цитаты из Писания, и снова приводит себе аргументы, и снова переключает свой ум на несущественное, - и это превращается в перманентно повторяемый процесс. Этот несчастный не знает, что ум по природе не может опираться на несущественное, что его в силу необходимости влечёт к самому главному и самому существенному, - а потому он подвергает его постоянному насилию. От этого сходят с ума, это опасно для здоровья. Идеология помогает хорошо и спокойно спать не только ночью, но и днём - в этом её сила и в этом её предназначение. Спящие довольны, они смеются над «шизофрениками», - они уже забыли, что бодрствование может быть здоровым. Здоровое же бодрствование, к которому призван христианин, достигается единством цели и средств, следованием Христу без оглядки на материальное благосостояние, истинным богослужением. Нельзя стать христианином, пока не возненавидишь идолов.
Идеология пронизывает внешнюю структуру любого социального института, взятого в своём материальном аспекте. Идеи помогают людям объединяться ради одного общего дела, хорошее оно или плохое. Но есть другие начала, которые скрепляют структуру нашего мира хотя и невидимыми, но более крепкими нитями – и это нити Логоса, связывающего и содержащего мир в Духе Святом. По обетованию Спасителя нашего, структура, основанная на камне Евангелия, который есть Христос, не упразднится никогда, но пребудет в вечности. Она невидима, как закваска, но имеет в себе жизнь, образуя единый организм, состоящий из множества членов, которые взаимодействуют между собой по принципу иерархии. Понимание Церкви как единого организма, устроенного на основе природного единства взаимодействующих членов, переносит нас в сферу богословия. На основе этого принципа жизненный путь любого человека, принадлежащего к Церкви, имеет значение для всей Церкви: путь святого или путь грешника сказывается, в конечном счете, на состоянии всего церковного организма (ср. 1 Кор. 12, 26). Поэтому идеологические механизмы, обслуживающие человеческие страсти, хотя и приносят боль всему церковному телу, тем не менее не касаются его существа, покуда церковная иерархия остаётся в границах апостольского предания. Не следует забывать, что Церковь существует во внешних формах, выражающих её природу, её способ существования, её богословие и исповедание, но она выше любого её выражения. Не верующие, договариваясь между собой, формируют исповедание Церкви, а Церковь сообщает им свою истину, которая становится всеобщим исповеданием. Не люди формируют Церковь как Тело, а Церковь формирует людей в качестве своих членов. Диалектика богословского понятия «тела», конечно, заслуживает отдельного разговора. Здесь важно иметь в виду, что «картина» Церкви перед Богом определяется совершенно иными критериями, нежели наши человеческие понятия: если с нашей точки зрения церковь – это огород, куда посажено худое и доброе, народ, который идёт через пустыню Сир и чаще жаждет мяса египетского, нежели земли обетованной, то для Бога Церковь уже иная, потому что экклесиология неотделима от эсхатологии. И зрение святых, которые дают смысл бытию церкви, провидит эсхатологию в земном тленном бытии.
Впрочем, здесь мне не хотелось бы поднимать вопросы экклесиологии (которая в данном случае для меня, как для верующего человека и монаха, наиболее важна). Не в этом цель настоящей статьи. На мой взгляд, в данном контексте важно понять, как наша сегодняшняя церковная жизнь выглядит со стороны. В зеркале. И какими должны быть основные приоритеты. У человека, который отстранён от внутренних идеологических битв, совершающихся внутри церкви, при виде такого печального положения дел возникает ощущение какого-то тотального глумления над его личными святынями, над его ценностями, над его душой. Именно поэтому, когда человек читает ленту новостей и видит сообщения о том, что люди, называющие себя представителями Церкви (то есть института, обладающего неким априори полученным «сертификатом» на истину), на самом деле порочны, лживы, властолюбивы и пользуются двойными стандартами, он приходит в естественное негодование. Не потому, что он противник истины и веры. С его точки зрения святыни, с которыми он имеет личные непосредственные отношения, присваивают люди, не имеющие на это никакого права. Ему кажется, что в его душу вошли какие-то ряженые разбойники (эти самые, в золотых облачениях и крестах, со стеклянными глазами) и растоптали там всё самое ценное, самое дорогое и самое прекрасное. «Золотые люди» имеют власть, силу, авторитет. Их слушают, потому что они помогают лгать, способствуют тотальному беспробудному сну. Именно это во многом обусловливает то явление, которое сегодня принято называть «либеральным трендом». Но люди не хотят спать; как и тысячу лет назад, они хотят бодрствовать, чего бы это ни стоило. И вот, у них возникает недоуменное вопрошание, обращённое к представителям Церкви. Скажите нам, говорят они, что-нибудь о том, что нас всех волнует и тревожит, а именно - о главном, о том, что значит быть христианином, что значит жить согласно истине. Скажите хоть что-то о том, как сегодня остаться человеком и не превратиться в мерзавца. И после этого задайтесь вопросом: насколько жизненно важны сегодня проекты по тотальному обращению в православие всей страны? Не рождены ли они в каком-то фантастическом мире, далёком от реальности?
Однако сегодня, чтобы говорить правду, надо иметь мужество. Пришло время что-то терять, а иначе потом нечего будет хранить. При этом я далёк от мысли, что каждому священнику непременно надлежит выступать и лезть на баррикады - идеал христианской жизни состоит во внутреннем безмолвии и чистоте души. Однако же людям, которые приходят и спрашивают нас о главном, непременно надо говорить всю правду. А вся правда дана в Евангелии, которое есть зеркало, отражающее для нас подлинную реальность. Но здесь есть небольшой нюанс, о котором напоминает св. Исаак Сирин: смотреться в это зеркало может только тот, кто очистит свое собственное внутреннее зеркало. Поэтому священник, говорит ли он или пребывает в молчании, только тогда станет свидетелем божественной истины, - а не идеологом, скажем, очередной социальной группы, навязывающей всем остальным сомнительные «ценности», - когда его внутреннее зеркало совпадёт с зеркалом Евангелия и станет излучать с ним один и тот же свет. «Примирись сам с собою, и примирятся с тобой небо и земля».
Для духовного лица сегодня, как никогда, важно свидетельствовать об истине, исполнять закон Божий и церковные каноны и не думать о последствиях, полагаясь на волю Божию. Это, пожалуй, самое существенное свидетельство Церкви. Но в этой ситуации есть и другая, противоположная опасность. Многие священники, и это отнюдь не секрет, находясь в тяжёлом положении (материальном или моральном) и в то же время увлекаясь той или иной идеологической пропагандой и соответствующим образом мысли, ставят сегодня вопрос о выходе из «такой системы». Я думаю, что это какой-то светский, абсолютно не христианский подход. В нём читается неверие Богу, и возможно даже - в Бога. Этим людям кажется, что расставшись с остальными членами церковного тела, которые в той или иной степени все больны, они автоматически станут здоровыми. Но это не так, поскольку ложь живёт внутри человека, а не вне его. «Система лжи» ломается не внешним усилием и не переходами из юрисдикции в юрисдикцию в поисках истины, - ибо ложная «система», система порочных взаимоотношений способна воспроизводиться в любой юрисдикции, - а только личным духовным усилием и терпением: «Претерпевший же до конца, спасётся» (Мф. 10, 22). Здесь можно вспомнить пример преподобного Афанасия Паросского, жившего в кон. XVIII - нач. XIX вв., который всегда писал и говорил то, что думал, за что и был запрещён в священнослужении, и находился под запретом в течение пяти лет. Запрещён он был незаконно, более того, он подвергся запрету за отстаивание традиции поминовения усопших и частого причащения, которая затем была принята Церковью. Но он подчинился - ему и в голову не пришла мысль о том, чтобы «уйти из системы». Глубокое церковное сознание и понимание экклесиологии, свойственное святым, просветляло их ум, делало его ясным и чистым: они видели, что путь христианской жизни неизбежно есть крестный путь. Гонение есть своего рода дар Божий, который даётся не всем: претерпеть скорбь ради Христа (а это любая несправедливость, в том числе и от церковного «начальства») Церковь всегда почитала высшей честью и величайшим Божиим благословением. Пусть не думает благочестивый батюшка, служащий в большом столичном приходе с потерявшими страх Божий священниками, что сможет остаться незамеченным: возлюбившие грех и беззаконие обязательно обратят на него внимание, нутром почуют (как волки), что этот - не из их числа. И начнут его гнать - как и раньше имевшие власть миролюбцы гнали праведников, воспринимая их кроткий вид, правдивые слова и смиренный образ жития как укор и обличение себе. Вся история христианства - это сплошной крестный путь рабов Божиих.
Внутреннее изменение всегда достигается жизнью в Церкви, участием в таинствах и постоянной духовной работой, которая состоит из созерцательной и практической части. Состояние раздвоенности сознания, которое свойственно сегодня многим верующим, и особенно священникам, не является естественным для человека. Поэтому когда человек приобретает понятие о красоте, возводящее телесные чувства к духовным первообразам, к нему естественным путём постепенно приходит и внутреннее ощущение истины, исправляющее дефекты созерцательной части души, а за познанием истины следует добро, освящающее практическую жизнь. Христианский сознательный подвиг, таким образом, соединяет воедино три неразрывные части внутренней структуры человеческого - и божественного - мира: добро, истину и красоту. Христианину рано или поздно предстоит осознать, что истина - это его судьба. А дальше просто остаётся сделать шаг навстречу.
См. на эту тему полезную статью митр. Иоанна Зизиуласа «Идентичность Церкви», в кн. Церковь и Евхаристия: Статьи по православной экклесиологии. Богородице-Сергиева пустынь, 2009, с. 19-42.
Более подробно о понятии «идеологии» в христианском контексте см.:«О борьбе идеологий и церковном сознании».
Исаак Сирин. Слова подвижнические, 2. Изд. репринтное: Москва, «Правило веры», 1993, с. 10.
Запрещен в 1776 г. (при патриархе Софронии II), запрещение снято в 1781 г. (при патриархе Гаврииле IV).