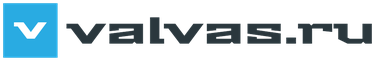Вырос в семье известного чаеторговца; старший брат коллекционера Д. П. Боткина, врача С. П. Боткина , художника М. П. Боткина. Окончил частный пансион В. С. Кряжева; усердно занимался самообразованием.
Адреса в Санкт-Петербурге
1867 год - доходный дом Фёдорова - Караванная улица, 14.
Литературная деятельность
Дебютировал в печати статьёй «Русский в Париже (). Из путевых записок» в журнале «Телескоп » ( , № 14). Участвовал в «Молве», затем в журнале Белинского и М. А. Бакунина «Московский наблюдатель» ( -). В журнале «Отечественные записки » публиковал статьи о музыке («Итальянская и германская музыка», 1839, № 12), живописи, Шекспире («Шекспир как человек и лирик», 1842, № 9). В статье «Германская литература» (1843, № 1, 2, 4), среди прочего, кратко изложил начало брошюры Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение», не называя автора и сочинение; в статье «История древней философии… Карла Зедергольма…» (1842, № 3) выразил солидарность с радикальными воззрениями, в частности, Л. Фейербаха .
По возвращении из поездки по Испании опубликовал цикл очерков «Письма об Испании» («Современник», , № 3, 10, 12; , № 11; , № 1, 11; , № 1; полное издание Санкт-Петербург , ).
Литература
- Б. Ф. Егоров. Дружинин. - Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т. 2: Г - К. Москва: Большая российская энциклопедия, 1992. С. 187-190.
Ссылки
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|---|
| Василий Петрович Боткин | Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии - Книга по Требованию, (формат: 60x90/16, 224 стр.) - | 2012 | 1074 | бумажная книга | |
| Галина Парсегова | На создание настоящей книги автора вдохновили "Письма об Испании" Василия Петровича Боткина, замечательного русского публициста XIX века. Спустя 160 лет после испанского путешествия Боткина… - ЛКИ, (формат: 60x90/16, 224 стр.) | 2014 | 378 | бумажная книга | |
| Парсегова Г.З. | На создание настоящей книги автора вдохновили "Письма об Испании" Василия Петровича Боткина, замечательного русского публициста XIX века. Спустя 160 лет после испанского путешествия Боткина… - URSS, (формат: 60x90/16, 224 стр.) - | 2014 | 378 | бумажная книга | |
| Галина Парсегова | На создание настоящей книги автора вдохновили `Письма об Испании` Василия Петровича Боткина, замечательного русского публициста XIX века. Спустя 160 лет после испанского путешествия Боткина… - ЛКИ, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.) | 2014 | 323 | бумажная книга | |
| В. П. Боткин | Издание 1976 года. Сохранность удовлетворительная. Книга "Письма об Испании" это результат путешествия автора по Испании в 1845 году, которая в то время была очень плохоизвестна нам. Заключительные… - Наука. Ленинградское отделение, (формат: 60x90/16, 224 стр.) Литературные памятники | 1976 | 730 | бумажная книга | |
| Парсегова Г.З. | Третья книга из задуманной автором "испанской трилогии" (первая книга:" Письма об Испании. 160 лет спустя" . М.: URSS, 2011; вторая:" Влюбленные из Теруэля. Легенды Испании" . М.: URSS, 2011)… - URSS, (формат: 60x90/16, 216 стр.) - | 2017 | 507 | бумажная книга | |
| Парсегова Г.З. | Третья книга из задуманной автором`испанской трилогии`(первая книга:`Письма об Испании. 160 лет спустя`. М.: URSS, 2011; вторая:`Влюбленные из Теруэля. Легенды Испании`. М.: URSS, 2011) посвящена… - URSS, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.) | 2017 | 636 | бумажная книга | |
| Галина Парсегова | 2015 | 330 | бумажная книга | ||
| Галина Парсегова | Третья книга из задуманной автором "испанской трилогии" (первая книга: "Письма об Испании. 160 лет спустя" . М.: URSS; вторая: "Влюбленные из Теруэля. Легенды Испании" . М.: URSS)посвящена… - Ленанд, (формат: 60x90/16, 216 стр.) | 2015 | 949 | бумажная книга | |
| Парсегова Г. | Третья книга из задуманной автором "испанской трилогии" (первая книга: "Письма об Испании. 160 лет спустя" . М.: URSS, 2011; вторая: "Влюбленные из Теруэля. Легенды Испании" . М.:URSS, 2011)… - Ленанд, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.) | 2017 | 520 | бумажная книга | |
| Парсегова Г.З. | Третья книга из задуманной автором "испанской трилогии" (первая книга:" Письма об Испании. 160 лет спустя" . М.: URSS; вторая:" Влюбленные из Теруэля. Легенды Испании" . М.: URSS) посвящена… - URSS, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.) - | 2017 | 834 | бумажная книга | |
| Г. З. Парсегова | Вторая книга из `Испанской трилогии` (Твердыйвая книга: `Письма об Испании. 160 лет спустя`. М., URSS; третья: `Камино-де-Сантьяго (Путь Св. апостола Иакова)`. М., URSS) вводит читателя в… - URSS, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.) История культуры зарубежных стран | 2016 | 903 | бумажная книга | |
| Галина Парсегова | Вторая книга из `Испанской трилогии` (первая книга: `Письма об Испании. 160 лет спустя`. М.: URSS, 2012; третья: `Камино-де-Сантьяго (Путь Св. апостола Иакова)`. М.: URSS, 2012) вводитчитателя в… - ЛКИ, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.) | 2015 | 474 | бумажная книга | |
| Парсегова Г.З. | Вторая книга из "Испанской трилогии" (первая книга:" Письма об Испании. 160 лет спустя" . М.: URSS, 2012; третья:" Камино-де-Сантьяго (Путь Св. апостола Иакова)" . М.: URSS, 2012) вводит читателя в… - URSS, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.) - | 2016 | 378 | бумажная книга | |
| Г. З. Парсегова | Третья книга из задуманной автором`испанской трилогии`(первая книга:`Письма об Испании. 160 лет спустя`. М.: URSS; вторая:`Влюбленные из Теруэля. Легенды Испании`. М.: URSS) посвящена знаменитому… - URSS, (формат: Мягкая глянцевая, 216 стр.)
- писатель; род. 27 декабря 1811 г. в Москве, ум. 10 октября 1869 г. Старший сын богатого московского чаеторговца, первоначальное образование получил в частном пансионе (Кряжева). Молодость его совпала с тем временем, когда русское купечество еще… …
Русская литература - I.ВВЕДЕНИЕ II.РУССКАЯ УСТНАЯ ПОЭЗИЯ А.Периодизация истории устной поэзии Б.Развитие старинной устной поэзии 1.Древнейшие истоки устной поэзии. Устнопоэтическое творчество древней Руси с X до середины XVIв. 2.Устная поэзия с середины XVI до конца… … Литературная энциклопедия Никулин, Лев Вениаминович
- советский писатель. Род. в семье актера в Волынской губ. С 1911, учась в Московском коммерческом институте, начал сотрудничать в сатирических журналах и газетах (стихи, фельетоны, рецензии). Участвовал в гражданской войне, работая в… … Большая биографическая энциклопедия
|
Эта книга считается, чуть ли не самым первым очерком об Испании в русской литературе. До него мало кто в нашей стране знал хоть что-нибудь точное об Испании.
Не зря Вайль говорил, что путешественнику обязательно надо рассказывать о своём путешествии. Боткин действительно писал письма, но, боже мой, как он их писал! Кто сейчас из нас пишет такие письма: пространные, подробные, эмоциональные, стилистически выверенные. Боткин не просто рассказывал то, что видел, описывая архитектурные и прочие красоты, он анализировал исторические и социальные причины, он общался с людьми, подмечал национальные особенности, и, по-моему, в конце концов, проникся к ним искренним уважением и любовью к испанцам.
На страницах у Боткина – Испания XIX века, но, несмотря на неактуальность, как же интересно читать это! У Боткина Испания – живая! И, пожалуй, это главный секрет. Благодаря такому срезу мы можем наблюдать изменение национального характера, результаты некоторых исторических предпосылок сегодня просматриваются даже ещё более отчётливо. А приведённый многочисленные национальные песни и романсы добавляют тексту пикантную «солинку», ещё больше раскрывая удивительный испанский характер и их образный язык.
Автор, литературный критик и переводчик, обладает удивительной эрудицией, которая помноженная на положительный и спокойный взгляд, делает книгу увлекательной и приятной. Хотя многословие стиля того времени вызывает небольшие трудности при чтении и совсем лёгкую улыбку – так забавны некоторые выражения, если смотреть с позиций современного языка.
Всем увлечённым испанской литературой книга предлагает массу интереснейшей информации, множество тем для размышления и, безусловно, удовольствие от чтения.
Цитаты
1.
По пустынным равнинам подъезжаешь, наконец, к Мадриту, который стоит тут бог знает зачем, потому что среди этих пыльных, совершенно обнаженных полей решительно нет никакой причины стоять не только столице, даже ничтожному городишке.
2.
Впрочем, один уже вид этого города говорит, что никогда народный инстинкт не выбрал бы себе столицею такого во всех отношениях бедного местоположения. К несчастию Испании, не презрительному взору гения выпал жребий избрать ей столицу, а монарху мрачному, эгоистическому, более занятому своими капризами и личными интересами, нежели счастием своей страны. Чем более рассматриваешь Мадрит, его положение, его средства, тем более убеждаешься в пагубном влиянии, какое этот несчастный выбор имел на испанский народ. … Здесь есть пословица, что мадрнтский воздух не задует свечи, а убивает человека.
3.
…чичероне мой рассказал мне следующий народный рассказ: Сан-Яго (народный святой в Испании) по смерти своей предстал пред богом, который, довольный его земными подвигами, говорит ему, что исполнит все, о чем он будет просить его. Сан-Яго просит, чтобы бог даровал Испании богатство, плодотворное солнце, изобилие во всем. - Будет, - был ответ. - Храбрость и мужество народу, - продолжал Сан-Яго, - славу его оружию. - Будет, - был ответ. - Хорошее и мудрое правительство... - Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию.
4.
Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно; недаром существует у него пословица: "Король может делать дворянами, один бог делает кавалерами".
5.
В манерах и движениях андалузянок есть какая-то ловкость, какая-то удалая грация... это-то и называют испанцы своим непереводимым sal espafiola (соль испанская). Я уже говорил об этом народном выражении, но и теперь все-таки не умею определить его... Это не французская грация, не наивность и простодушие немецкие, не античное спокойствие красоты итальянской, не робкая и скучающая кокетливость русской девушки... это в отношении внешности то же, что остроумие относительно ума.
6.
Настоящая католическая живопись развилась только в Испании. В Италии она всегда была проникнута преданиями античного искусства; даже в мастерах, предшествовавших в Италии XVI веку, христианство является гораздо более в форме, нежели в чувстве и содержании искусства. … Мне кажется, они преимущественно брали формальную сторону христианства: его внутренняя, страстная, мистическая сторона осуществилась в живописи испанской. … В Испании живопись развилась на почве, возделанной фанатизмом и инквизициею (которые так отразились в мрачном, кровавом Риберо), под влиянием духовенства самого невежественного и варварского. … Семивековая борьба с исламизмом сохранила испанскому католицизму страстный, восторженный характер, знаменовавший первые века христианства
7.
Mil almas que tuviera
Те diera juntas:
No las tengo, mas toma
Mil veces una.
(Если б во мне была тысяча душ, я б их все вместе отдал тебе: нет во мне их, возьми лучше тысячу раз одну).
8.
Нигде здесь природа не имеет спокойного, ласкающего характера. … Не от этого ли и основу испанского характера, как мне кажется, составляет какая-то страстная грусть, переходящая иногда в страстную же веселость.
9.
Мне показалась она такою интересною по своей бестолковой оригинальности...
10.
В равнинах - природа только на первом плане, так сказать, у ног; дальше - одно небо и пустое пространство, которое невольно склоняет к задумчивости и грусти: отсюда, вероятно, и склонность к мечтательности в жителях равнин.
11.
Но в Испании красота ее (природы) имеет совершенно иной характер: здесь она величава, необъятна; в ней меньше живописного, но зато несравненно более поэтического. Она больше говорит душе, нежели глазам. В испанском пейзаже нет той определенности, как в итальянском, меньше разнообразия и картинности, но гораздо больше величия. Между итальянскою и испанскою природою та же разница, как между поэзиею северных и южных народов. В северной меньше определенности, меньше красок и яркости в образах, но зато она сквозь свою туманность уловляет такие оттенки чувства, такие сокровенные движения души, которые никогда не даются яркой и цветистой определенности южных поэтов.
12.
Я не могу дать даже приблизительного понятия о воздушности впечатления целого: в этом чувствуется характер подвижных жилищ пустынь, и тоненькие колонки эти по своей форме намекают на шесты, на которых укрепляют кочевые шатры.
13.
У мавров кипарис был символом молчания: он не шумит от ветра ни листьями, ни ветвями, как прочие деревья.
14.
Перед твердыми, простыми, строгими линиями античного зодчества эта миниатюрная капризность мавританских украшении, вся эта филогранная игривость кажутся забавою милых, грациозных детей. В самом деле, ни малейшего чувства долговечности, даже прочности не пробуждают здания арабов: это легко, это воздушно, это удивительно изящно, но все это, кажется, тотчас разлетится, как мираж.
15.
ни один народ не имеет такой богатой, поэтической литературы, как испанцы; народная поэзия их живет не в книгах, а в непрерывном изустном рассказе. Отсюда его способность к импровизации, которую можно объяснить только именно богатством народной поэзии, заучая которую народ непосредственно научается владеть своим языком.
16.
И долго у изгнанных мавров сохранялась поговорка, когда кто задумывался -- о нем обыкновенно говорили: "Он думает о Гранаде"...
17.
да и возможно ли отчетливо описывать то, чем душа бывает счастлива! описывать можно только тогда, когда счастие сделается воспоминанием. Минута блаженства есть минута немая.
Данная работа представляет собой анализ культорологического труда искусствоведа и путешественника середины XIX в. Василия Петровича Боткина.Прежде чем ступить на Пиренейский полуостров, Боткин выучил испанский язык, читал в подлинниках испанских писателей , старых и современных, проработал все доступные сочине ния по истории страны , познакомился с испанскими политическими изданиями, запасся рекомендательными письмами к предс тавителям различных партий . Впечатления Василия Петровича от увиденного за время путешествия легли на основу фактических материалов, собранных из разных источников. Р езультатом систематического труда Боткина стал удивит ельный по красоте слога, тонкост и восприятия и фактически точный страноведческий труд и, в то же время, литературное произведение под названием «Письма об Испании».
Скачать:
Предварительный просмотр:
Испания глазами В. П. Боткина
Глухова О. С.
Василий Петрович Боткин, известный знаток искусства и член кружка западников, в 1843 году отправился путешествовать по Европе. Завершением этой двухлетней поездки стало посещение Испании в 1845 году. Прежде чем ступить на Пиренейский полуостров, Боткин выучил испанский язык, читал в подлинниках испанских писателей, старых и современных, проработал все доступные сочинения по истории страны, познакомился с испанскими политическими изданиями, запасся рекомендательными письмами к представителям различных партий. Впечатления Василия Петровича от увиденного за время путешествия легли на основу фактических материалов, собранных из разных источников. Результатом систематического труда Боткина стал удивительный по красоте слога, тонкости восприятия и фактически точный страноведческий труд и, в то же время, литературное произведение под названием «Письма об Испании».
С первыми шагами по испанской земле Боткин открывает для себя новый мир: «Нечего вам говорить, с каким любопытством переезжал я границу Испании, с каким жадным вниманием встретил я Ирун (Yrun), первый пограничный испанский город» . Боткин ставит своей задачей показать истинную Испанию, её самобытный характер, её непохожесть на другие страны Европы, поэтому его внимание привлекает любая деталь, сколько-либо характеризующая местное население и отличающая его от других европейцев: спокойствие и величавость манер жителей, классические испанские плащи, на половину выбритые, украшенные разноцветными лентами мулы, солдаты с большим количеством ружей, сопровождающие дилижанс, а так же плохое качество оливкового масла, запах которого будет преследовать Боткина на протяжении всего путешествия и станет, чуть ли не главным, источником неудобств утонченного гурмана в этой южной стране.
«Письма об Испании» Боткин пишет уже после непосредственной поездки по материалам, сделанным во время путешествия. В первых трех письмах, созданных в 1847 году, то есть до революционных потрясений 1848 года, большое внимание автор уделяет политическим вопросам, но дело не только в интересе самого Василия Петровича к этой теме. Попав в Мадрид, Василий Петрович оказался в самой гуще политической жизни страны: «Как бы вы ни были расположены к созерцательной, художественной жизни, как бы вы ни чуждались политики, в Мадриде – вы брошены насильно в нее. С кем бы ни заговорили вы, слово el gobierno (правительство) будет если не первым, то уж верно вторым, которое вы услышите» . Сохраняя «самое страстное почтение к своей Изабелле», испанцы относятся к правительству с явным презрением. «Испания полна уныния», – пишет Боткин и видит причины этого уныния в политическом произволе: «Никогда администрация не имела других законов, кроме собственного каприза и своих личных интересов. Так было прежде, то же теперь» . Боткин рассказывает русскому читателю о том, как в Испании законно, благодаря выкрикам «Да здравствует Изабелла Вторая!», происходят восстания против правительства . Толпа выкрикивает лозунги против министерства, конституции или за какого-то человека. Зачинщики, многие из которых принадлежат муниципалитету или милиции, начинают говорить перед толпой о положении общественных дел. Затем оратор произносит речь, наполненную такими громкими словами как свобода, деспотизм, героическая нация, измена, отечество и законченную криком muera и viva . Затем зачинщики входят в ратушу и в присутствии городового управления составляют прокламацию. Учреждается хунта спасения и управления, отставляются все прежние власти и назначаются новые, забирают городскую казну и вооружают милицию . При этом, «не только каждое новое министерство, то есть каждая торжествующая партия, но просто каждый новый министр непременно отставляет чиновников своего предшественника и помещает на их место своих». Любые назначения подписываются от имени королевы, а значит остаются непременными, и отстраненные чиновники сохраняют свое звание с правом на половинное жалование, в то время как места их заняты другими чиновниками, получающими полное жалование . Таким образом, чиновничий класс имеет в Испании огромную численность.
Боткин не раз указывает, что Испанию нельзя судить европейскими мерками. Такие понятные европейцу слова как конституция, партии, журналистика, политические доктрины, воля народа в отношении Испании «имеют свое особое значение» . В то время как для горожан политические вопросы являются основными и жизненно важными, основная масса народа остаётся совершенно равнодушной к политике: «Кастильцу-простолюдину нужно работать, может быть, только две недели в году, чтобы вспахать свое поле и собрать хлеб; остальное время он спит, курит, ест и нисколько не заботится о всем том, что лично до него не касается» . Испанский народ не подготовлен к выступлениям. Если во Франции уже долгое время существовала философская литература, то в Испании «в продолжении двух веков не было другой литературы, кроме проповедей духовенства». Боткин указывает и на отсутствие каких-либо «рассудительных теорий», «практической мысли» в политической прессе: «Идей нет – есть одни лица и имена; ни один вопрос государственного устройства не подвергается анализу» .
Европейцы считали Испанию оплотом католичества, но Боткин указывает на ошибочность и этого мнения. Несколько столетий на территории Испании свирепствовала инквизиция, сократившая народонаселение страны до десяти миллионов человек. Но уже через восемнадцать лет после отмены инквизиции в 1812 году монастыри были упразднены и вместе с землями поступили в государственное владение и продавались с аукционного торга. Священники утратили свое влияние на горожан, а в народе религиозность остается «как привычка, но как привычка вялая, ленивая, скучная» . Причину подобного религиозного омертвения Боткин видит во многовековом произволе инквизиции, которая «запрещала народу думать и рассуждать о религии, и народ теперь нисколько не думает и не рассуждает о ней: успех полный, цель достигнута…» .
Боткина, приверженца западничества, интересует кроме всего прочего и влияние европейских идей на развитие Испании. Ещё при Карле III (1759–1788) философия энциклопедистов «пробралась» в страну «духом века, самою силою вещей, этою таинственною необходимостию, стремящею род человеческий к совершению судеб своих» . Однако не имела значительного влияния на общество. Восшествие на престол Бурбонов привело к распространению французского языка, «который всего лучше мог тогда познакомить испанцев с Европою и ее движениями» , но лучше французской литературы образованные люди усвоили французскую моду и манеры.
Большое внимание Боткин уделяет собственности в Испании. По его мнению, «ничто не служит таким верным барометром степени просвещения, на какой находится общество, как его политико-экономическое устройство» . Собственность, «общий источник политических ссор» , является, по мнению Боткина, отражением национального единства, сложившегося в Испании исторически. Собственник земли – дворянство – не имеет юридического права как-либо притеснять наёмщика-крестьянина: «если наемщик дурно платит, то владелец не может принуждать его к исправнейшему платежу; если он вовсе не платит, владелец может отказать ему, но должен предуведомит его об этом за год вперед» . Боткин указывает, что в Испании и сам крестьянин может стать собственником земли, при долгосрочном найме, когда «землевладелец уступает свою землю на условии ежегодной и раз на всегда определенной платы, и с сей минуты наемщик, платя исправно условную сумму, пользуется землею как своей полной и неограниченною собственностью» . Десятинная подать в Испании также «не возбуждает в испанском народе той враждебности, с какою смотрели на нее в Германии, во Франции и теперь смотрят в Ирландии», чему Боткин видит несколько причин. Во-первых, корни её восходят ещё ко временам карфагенян. Во-вторых, десятина в Испании продаваема и покупаема, и «если же она теперь находится большею частию в руках дворянства, то не потому, что оно дворянство, а потому, что дворянство, владея большими собственностями, было прежде очень богато и покупало ее» . В-третьих, размер подати зависит от стоимости земли. Таким образом, «десятинная подать в Испании не есть феодальная подать, происшедшая от завоевания, какою была она в остальной Европе; здесь она не более как форма поземельной подати» . В умеренных налогах на землю Боткин видит основную причину отсутствия в испанском народе революционного духа: «Можно ли бояться извержений народного волкана в стране, где, как я сказал уже, у самого беднейшего мужика есть всегда вдоволь хлеба, вина и солнца» . Таким образом, институт собственности, как и слабый уровень просвещения, способствует в Испании социальному миру.
Боткина, купца по происхождению, не может не интересовать положение торгово-промышленного сословия, чьи интересы в Испании, в отличие от интересов крестьянства, нисколько не удовлетворены. Например, через дорогую и излишне формализованную таможню «везут только безделицу», в то время как основная масса товаров проходит контрабандой, «которая при таком тарифе, не смотря ни на какие законы, никогда не будет считаться в общем мнении предосудительною торговлею» . Охранительный тариф лишает и производство стимула к развитию, улучшению и удешевлении выпускаемой продукции. Основная же причина слабого развития промышленности и торговли видится Боткину в национальных предрассудках. Многовековая война с маврами привело к тому, что только военный человек – дворянин или земледелец-солдат – имел политический и нравственный вес, в то время как «народонаселение, которое, будучи перемешано с маврами, занималось только ремеслами, смотрели как на недостойное». Пойти в слуги к гранду или дворянину, заняться ремеслом разбойника, связанным с битвами и опасностями, и даже просить милостыни, было почетнее, нежели заниматься ручным трудом. «Ни один город не согласился бы иметь своим начальником человека, некогда занимавшегося ремеслом», – пишет Боткин. Купцы также испытывали притеснения. Среди прочих существовало правило, по которому «торгующий дворянин лишался дворянства» . Историю промышленности и торговли в Испании Боткин называет «летописью безумства, читая которую, едва веришь собственным глазам» . Например, в результате торговли с колониями цены на испанские товары сильно выросли, но вместо того чтобы поднимать национальную экономику, расширять производство и удешевлять себестоимость товаров, дворянство и духовенство вытребовали у правительства и кортесов резкого ограничения торговли с Америкой. В конце XVII в. было усилено наказание за вывоз за границу шелковых материй, запрещен вывоз железа, стали и шерсти. Из 5 700 000 человек населения 650 тысяч принадлежали дворянскому сословию и 180 тысяч духовенству, а праздничных нерабочих дней в календаре насчитывалось до трети от всего года. Бурбоны ослабили притеснения торговли и промышленности, но, как чужеродная династия, не могли напрямую идти против национальных предрассудков и ограничились полумерами. «Для Испании нужен был монарх, который, подобно Петру Великому, своротил бы ее со старой дороги на новую», – пишет Боткин. Такого монарха в Испании не нашлось.
При всей своей лени простой народ в Испании «образованнее», чем в остальной Европе, «только под этим словом не должно понимать книжное образование» . Ни один европейский народ, по мнению Боткина, «не имеет такой богатой, поэтической литературы, как испанцы». Их поэзия «живёт не в книгах, а в непрерывном изустном рассказе», которым объясняется живость испанского языка и остроумие простолюдин .
Национальное единство испанцев, возникшее на почве войны с маврами, удивляет Василия Петровича повсеместно. Мечта о классовом мире была характерна для Боткина-либерала. Дворянин в Испании «не горд и не спесив», а «простолюдин к нему не завистлив» . Единственное их различие – богатство – не может стать причиной вражды между ними, так как испанец «работает только для того, чтоб иметь самое необходимое, а все остальное время он предпочитает по целым дням стоять, завернувшись в плаще, на городской площади, разговаривать о разных новостях или молча вертеть и курить свои papelitos (папироски)» . «Не только гражданин, но мужик, чернорабочий, водонос обращаются с дворянином совершенно на равной ноге» .
Равенство и уважение обнаруживается и в отношении испанцев со слугами: «слугам, как и всем, говорится “ваша милость” и никогда “ты”, во взаимном их обращении с хозяевами господствует какая-то добродушная, простая фамильярность» . В Испании «должность слуги не имеет в себе ничего унизительного», поэтому даже обедневшие дворяне охотно поступают в слуги «чтобы не работать» .
Нигде в Европе Боткин не встречал такой свободы, какая царствует на испанских улицах: «Здесь словно каждый у себя дома» . Непринужденность, громкий смех, живость разговоров: «Как все это не походит на европейские гуляния, а тем менее на наши, на которые мужчины и женщины выходят с такими натянутыми, заученными лицами и манерами» , – заключает Василий Петрович. На фоне всеобщего равенства и открытости местного населения «сочиненное изящество» иностранцев, особенно англичан, «кажется смешною карикатурою и пошлостью» . «Предрассудки сословий», перенесенные «на эту девственную почву», делают общество в домах английских офицеров «невыносимо скучным» .
В каждом письме Боткин максимально полно описывает местность, в которую прибыл. Красота испанской природы, вошедшая в европейские поговорки, оказывается лишь одним из множества мифов. Испания предстала перед Боткиным землёй «природы унылой, суровой и пламенной» . Основная часть страны – выжженные африканским солнцем песчаные равнины. Лишь в некоторой части Андалузии «за несколько шагов» пыльные кусты розмарина сменяются мощными тополями и дубами, и в «немногих местах, прилегающих к Средиземному морю, сохранилась роскошная растительность» . Исключение он встречает и по дороге от Малаги: «На пространстве десяти верст, поднимаясь от долин к снеговым вершинам, здесь можно наблюдать постепенность всех климатов, от тропической растительности долин до суровых дебрей горных вершин, напоминающих самые унылые тундры нашей Сибири» .
Боткин, известный знаток женской красоты, не мог обойти вниманием естественную привлекательность испанок. Андалузские женщины «не имеют того величавого и несколько массивного вида, каким отличаются итальянки; все они очень небольшого роста, гибкие и вьющиеся, как змейки, и более приближаются к восточной, нубийской породе, нежели к европейской» . Более всего привлекательными их делает «совершенно оригинальная грация», которую сами испанцы называют «солью». Под этим словом подразумевается остроумие, ловкость походки, «несколько удалая грация движений, скромная, наивная и вместе вызывающая, которую имеют только женщины Кадиса и Малаги» . Испанские женщины ничего не читают, но, по мнению Боткина, «остроумие невежества лучше книжного ума» . В них нет даже тени романтизма, «этой болезни северных мужчин и женщин», и «ничего им так не противно в мужчинах, как сантиментальность» . «Это и ребенок и вакханка вместе», в глазах которой «нет выражения кротости, как в глазах северных женщин». В её глазах «блестит смелый дух, решительность, смелость характера» . Боткина подкупает природная потребность испанской женщины в любви, ведь для нее это чуть ли не единственное занятие : «В Европе женщина большею частию разделяет труды мужчины; испанец, напротив, любит, чтоб жена его держала себя знатной дамой, не заботясь ни о чем» . Путешествующий романтик, личное счастье которого не сложилось из-за «вычитанного чувства» и «идеальной фантазии», не находит в Испании и тени этой болезни: «Я понимаю, как можно в Севилье прожить целые годы в самом блаженном сне, который, право, стоит многих других, деловых снов» .
В улыбке андалузок «есть что-то дикое», что естественно, ведь утром они «равнодушно смотрели на лошадей, которых внутренности влачились по земле, они знают до тонкости все подробности смертных судорог, они смотрели на смерть с увлечением, со страстию» . Corrida de toros (бой быков), как ничто другое, может сказать «о наслаждениях, страстях, характере и физиономии испанского народа». Зрелище это есть «самое высшее, самое любимое» удовольствие испанца. Боткин посетил две корриды за одну неделю. Первый бой он не смог досмотреть до конца: «Волнение мое сделалось невыносимым, но я не в силах был отвести свои глаза от цирка, в голове у меня мутилось, я готов был упасть в обморок и не мог дождаться смерти пятого быка» . Со второй попытки он выдержал зрелище полностью: «Верьте, ни один актер, никакая драма не могут дать и тени такого необычайного потрясения, которое здесь овладевает душою и давит своею кровавой действительностию. Я хотел было закрыть глаза, чтоб перевести дух, – невозможно: в этом зрелище есть что-то магнетическое, обаятельное, против воли приковывающее к себе глаза» . «Жажда крови» владеет испанцами всех полов и возрастов: «При этих страшно потрясающих зрелищах присутствуют не одни мужчины, но и женщины, даже дети» . «Сердце из сливочного масла» , – презрительно говорят они об иностранцах, которые не в состоянии спокойно смотреть на муки быков и матадоров.
В Испании безграничная любовь к жизни питается играми со смертью, нежное женское личико всегда готово принять свирепое выражение, пустыня находится рядом с самой пышной растительностью, а невыносимый дневной жар сменяется ночной прохладой. Так и основу характера местного населения, по мнению путешественника, «составляет какая-то страстная грусть, переходящая иногда в страстную же веселость» . В свою очередь испанская музыка, как отражение народного духа, «или монотонная, ноющая жалоба, или страстный, удалой порыв» . Боткин находит, что испанцы плохие певцы, но «в этих острых и грустно-страстных мелодиях чувствуется вольная и смелая жизнь, которая не успела ещё уложиться в европейские формы» . Самобытные испанские танцы, «вдохновляющие обожание к красоте человеческого тела» Боткину также приходятся по вкусу: «чтоб хорошо танцевать их, не довольно иметь гибкий стан (его имеют и балетные танцовщицы)», «нужны вдохновение, страстное безумие» . Художественной натуре Боткина явно импонируют поэтическая натура испанца, богатство его народной поэзии.
Боткин, как эстет, не мог обойти вниманием испанское искусство. Пьесы местного театра, которые видел Боткин, «отличаются решительною пустотою» . Испанская архитектура захватывает Боткина в первую очередь переплетением испанской и мавританской традиций, которое отчетливее всего прослеживается в Гранаде. В архитектурном смешении Запада и Востока Боткин усматривает нечто родное, московское: «В этих вьющихся улицах легко заблудиться. Есть между ними такие узкие, что два человека рядом с трудом могут идти». Старый арабский базар «реставрируется в его прежнем стиле и расположением очень похож на внутренние ряды московского Гостиного двора» . Гранадская картинная галерея бедна достойными внимания произведениями. Единственный испанский художник, покоривший Боткина своим искусством, – знаменитый Мурильо, картины которого путешественник встретил в Севильи. Непередаваемый словами колорит картин, по мнению Боткина, художник перенял, у андалузских женщин, его окружавших: «Если вы не знаете Мурильо, если вы не знаете его именно здесь, в Севилье, верьте, целый мир, исполненный невыразимого очарования, ещё неизвестен вам» . Испанской живописи не были доступны мифологические сюжеты античного искусства из-за укоренившейся неприязни испанцев к римлянам. Война с маврами, гонения инквизиции сделали изобразительное искусство этой южной страны глубоко религиозным, но в отличие от «мрачного, кровавого» Риберо, Мурильо «религиозный не в символическом смысле, не в наивном и бесхарактерном смысле старых итальянских и немецких мастеров, а в самом светлом, поэтическом, в самом страстном смысле этого слова» .
Подчеркивая свободу в манерах, психологии и искусстве испанцев, Боткин сравнивает ее с европейской условностью. Наиболее европеизированный испанский город, Кадис во многом теряет перед другими андалузскими городами: «Национальные особенности одежды, обычаев, словом, жизни, имеют часто такую прелесть, а цивилизация в своем начальном действии пробуждает в обществе так много пустого обезъянства, такую безличность и бесхарактерность»
"Письма об Испании - 11 Малага. Сентябрь.1"
Последнее письмо писал я к вам из Танхера. Не знаю, сколько бы еще времени пришлось мне сидеть в этом грязном мароккском гнезде, если бы, на мое счастие, по случаю болезни брата мароккского султана, губернатор Гибралтара не прислал сюда военного парохода с доктором. Английские военные пароходы не перевозят путешественников за деньги; только по рекомендации английского консула я был принят на пароход вместе с моим спутником французом. Дорогою капитан обращался с нами, как с своими гостями, пригласил нас к завтраку, показывал свою библиотеку и вообще оказывал то лестное и вместе нисколько не отяготительное внимание, которое умеют оказывать одни только англичане, когда хотят быть любезными. Резкий противный ветер и непроницаемый туман заставили пароход употребить восемь часов на проезд от Танхера до Гибралтара, и на другой же день с пришедшим из Кадиса пароходом отправился я в Малагу, откуда и пишу к вам эти строки. Никогда не забуду я того радостного ощущений, когда, разбуженный стуком якорной цепи, вышел я на палубу. Солнце только что показалось из-за волн; белые дома Малаги были покрыты чудесным розовым отливом, при котором утренняя глубокая синева неба казалась темно-яхонтовою; за этою ярко-розовою кучею строений лежали горы с самыми мягкими очертаниями, покрытые густою темно-зеленью... в первый раз еще природа Испании имела для меня кроткий, ласкающий характер.
И вот уже с лишком месяц живу я в Малаге, любуясь на ее чудных женщин, на ее веселые нравы. Гостиница, где живу я, стоит в углу небольшой площади, площади Мавров. В день моего приезда - это было воскресенье - площадь была полна народа; я был поражен этою звонкою, беззаботною веселостию. Близ гостиницы цирюльник сидел на пороге своей лавки с солдатом, наигрывал ему что-то на гитаре, а тот внимательно прислушивался к его игре; перед ними стояла молодая девушка и, постукивая кастаньетами, качалась корпусом, как обыкновенно делают при начале всякого испанского танца;, на углу ближней улицы, выходившей на площадку, плясали фанданго; отовсюду слышалось бряцанье гитар, живые, меланхолические аккорды испанских танцев. И каждый вечер в Малаге словно праздник: песни и звуки гитар, самое беззаботное веселье, живые мелодии, смех и говор счастия и... юности, хотел я сказать, - но это слово шло бы к Европе, где веселится одна юность; в Андалузии и старики также веселы, и если они не танцуют с молодыми людьми, то всегда любят смотреть на их веселье, играть для их танцев на гитаре, подпевать им песни и не упускают случая импровизировать свой куплетец (coplita) в честь ловкой танцовщицы. Надобно узнать Андалузию вечером, чтоб понять все очарование этой южной жизни.
Малага как город вовсе не красива; но она лежит очень живописно; у ней прекрасный порт и самая изящная alameda (городское гулянье). Это длинный, сажен в пять шириною, бульвар, обсаженный густыми южноамериканскими растениями, между которыми расставлены мраморные бюсты римского времени, вырытые в окрестностях Малаги.2 Здесь теперь тысяч шестьдесят жителей, и народонаселение постоянно возрастает. Большая часть города сохранила еще свой мавританский характер, и в его вьющихся, темных улицах легко заблудиться. Старые, мавританские башни и ворота с своей аркой-подковою беспрестанно напоминают о времени владычества мавров, при которых Малага была значительным торговым и промышленным городом. Alcazaba, самая старая часть города, где живет теперь бедное простонародье, сохранила всю свою мавританскую стену. Это был некогда укрепленный замок гранадских владетелей. Красивые арабские ворота ведут в Alcazaba, а внутри построены бедные хижины, и между развалившимися зубцами стен растут дикие фиговые деревья и фантастические кусты кактусов. От старой мавританской крепости на горе, господствовавшей над городом, остались одни только полуразвалившиеся стены; сверху ее - обширный вид на море, голубое и сверкающее, усеянное множеством парусов, которых белизна ярко отделяется от яхонтового цвета неба и моря. Но горы, обставившие это великолепное море, поражают своею величавою обнаженностию: по берегу - ни дерев, ни жилищ, ни зелени; далеко тянутся одни только голые горы, крутые, суровые скалы, на которых лежит африканский пустынный и знойный колорит. Таков вид этой земли, знаменитой своим вином и мягкою теплотою своей атмосферы, - и такова прозрачность здешнего воздуха, что с старой мавританской крепости, особенно когда вечернее солнце освещает южный горизонт, ясно виднеются красноватые скалы горы Гибль-аль-Кибир в Африке, хотя по прямой линии до нее отсюда более 100 верст. Только улицы, прилегающие к гавани, выстроены в европейском стиле; огромная площадь, где сделана alameda, вся обстроена превосходными домами, в которых живет купеческая аристократия Малаги. Здешняя гавань уступает только барселонской в количестве приходящих кораблей, и из всех испанских городов Малага после Барселоны самый значительный торговый город, хотя и торгует только одними произведениями своей роскошной почвы. Все окрестные горы покрыты виноградниками, которые производят более пятнадцати сортов вин, и то, что выдают в Европе за мадеру, херес, белый портвейн, суть большею частию произведения малагской почвы; кроме того, много выделывается здесь оливкового масла, не говоря уже о сушеном винограде (изюме), апельсинах и лимонах. Гавань постоянно наполнена английскими, французскими и американскими судами, осенью огромные массы винограда вывозятся отсюда в Россию, Англию и Америку. Множество иностранных купцов, привлеченных выгодными оборотами, беспрестанно селятся в Малаге, и город постоянно оживлен. Жители здесь и в одежде, и в нравах не отличаются от других андалузцев, хотя сильная контрабандная промышленность и легкость добывать деньги и придали нравам их какой-то особенный удалой колорит, тем более что от ремесла контрабанды здесь самый близкий переход к ремеслу caballista (разбойника верхом). Легкость добывать деньги привлекает сюда, как всегда бывает при больших торговых портах, множество всяких бродяг, и окрестности Малаги пользуются очень дурной славой, так что в моих частых прогулках в горах мне советовали носить при себе оружие. Но в продолжение моего шестинедельного здесь пребывания, несмотря на то что я целые дни проводил один, верхом в горах, со мною решительно ничего не случалось, и пара заряженных пистолетов, которые я таскал с собою, оказалась совершенно бесполезною. Впрочем, эту безопасность приписывают здесь теперешнему губернатору (senor Ordona); а не далее как за полтора года даже улицы Малаги были так опасны, что ночью невозможно было ходить по ним без оружия. Жители Малаги вообще веселый, удалой народ, мало имеют потребностей и в неделю работают только несколько дней, чтоб на выработанные деньги погулять в воскресенье. Огненное вино, дешевизна жизненных припасов, мягкость климата и в особенности удивительная красота и грация здешних женщин сильно развивают страсти, и здесь беспрестанно слышишь о punaladas (ударах ножа) и убийствах, но причиною их не воровство, а ссора, мщение или ревность.
Погода стоит теперь здесь чудесная; после недавних дождей все окружные горы покрыты зеленью, словно при начале весны. Весна и осень здесь самые лучшие времена года; летом бывает несколько жарко, и, несмотря на мою любовь к теплу и солнцу, здешний зной иногда утомляет меня. Притом, чтоб быть здоровым, надобно вести очень воздержную жизнь в этом климате и непременно следовать примеру андалузцев и вообще испанцев: так же мало есть, как они, и так же мало пить вина. У южного человека страсти гораздо требовательнее желудка, у северного наоборот. С половины июля вся Андалузия, сожженная своим африканским солнцем, становится голою пустынею, и зелень виднеется только по берегам полувысохших рек. Но в конце сентября начинают изредка перепадать дожди, зелень снова возвращается: скаты гор и поля покрываются нарцизами, гиацинтами и белыми колокольчиками; в конце ноября все это снова исчезает; проливные зимние дожди сбивают нежные листья южных растений; одни только вечнозеленые деревья апельсинные и лимонные сохраняют свои листья и, обмытые сильными дождями от летней пыли, являются к зиме словно с свежими листьями. Тут в их темной, густой зелени начинают желтеть апельсины, и январь едва успеет кончиться, как уже распускающиеся цветы миндальных дерев возвещают наступающую весну. Такой здесь райский климат!
Четыре провинции, которые, составляют Андалузию, сохраняя между испанцами свое старое название королевств, оставшееся за ними со времени владычества мавров, суть Хаэн, Кордова, Севилья и Гранада. Эта южная часть Испании была всегда предметом привязанности народов, проникавших в нее и пораженных удивительным богатством ее почвы. Действительно, едва ли есть другая страна в мире, так роскошно одаренная природою: железо, медь, ртуть, сера, свинец, серебро, даже золото и теперь еще составляют здесь предмет больших приисков; в горах множество самого разнообразного мрамора и превосходного алебастра, солончаков, которых соль не требует ни малейшей обработки; кроме того, здесь разводится самый лучший скот, мериносы, не говоря уже о хлебе, самых разнообразных плодах, вине, оливковом масле, льне, пеньке, шелке, хлопчатой бумаге, сахарном тростнике; и, несмотря на все это, страна находится в запустении и в горах ее царствует могильная тишина. Во времена мавров, сделавших Андалузию самою богатою и просвещенною, по тогдашнему времени, страною в Европе, по берегам Гвадалквивира было 12 000 деревень, а теперь едва ли наберется 800; народонаселение ее теперь вдесятеро меньше тогдашнего, и в этой плодоносной Андалузии есть такие пустынные места, которые не уступают запустением своим африканским песчаным равнинам. Только в немногих местах, прилегающих к Средиземному морю, сохранилась роскошная растительность. Эти долины, между горами, на вершинах которых лишь в последние летние месяцы стаивает снег, орошены множеством ручьев; жгучий жар африканского солнца освежается в них ветром, охлажденным ледниками; вода везде под руками и в изобилии; по южному берегу, начиная от Малаги, находятся плантации сахара и хлопчатой бумаги; кофе и индиго могут свободно разводиться; банианы растут в садах, так что на пространстве десяти верст, поднимаясь от долин к снеговым вершинам, здесь можно наблюдать постепенность всех климатов, от тропической растительности долин до суровых дебрей горных вершин, напоминающих самые унылые тундры нашей Сибири.
Из всех городов арабской Андалузии ни один не оказал испанцам такого геройского сопротивления, ни один не отстаивал с таким мужеством своей независимости и веры, как Малага. Трехмесячная осада Малаги Фердинандом и Изабеллой в 1487 году составляет одну из самых поразительных драм гранадской войны. С каким отчаянием держались мавры за свою прекрасную Андалузию, с каким страшным упорством отстаивали они каждый шаг ее! Словно предчувствуя свою горькую судьбу, они давно уже оплакивали свое отечество. Есть один арабский романс XIII века, написанный после взятия испанцами у арабов Севильи арабским поэтом Абульбаки-Салехом;3 послушайте, сколько скорби, сердечного рыдания, сколько тяжкого предчувствия в этом романсе или, вернее, в этом плаче араба над своим народом, своею верою и своею возлюбленною Андалузиею! Упомянув о проходимости всякого земного величия и счастия, араб продолжает:
"Где могучие повелители Йемена, где их короны, их диадемы?
Неотразимая судьба постигла их...
Она произвела царей, царства и народы; а что они ныне? - нечто похожее на призраки сна.
Неисцелимое бедствие постигло Андалузию, а с нею и весь исламизм.
Города и провинции наши опустели...
Спроси у Валенсии, что сталось с Мурсией, где Хаэн и Хатива?
Спроси, где Кордова - жилище знания, что сталось с мудрыми, обитавшими в ней?
Где теперь Севилья с ее очарованиями, с ее рекою вод светлых и кротких?
Дивные города, вы были столпами страны; как же не разрушаться стране, когда она потеряла столпы свои?
Как любовник, оплакивающий свою любезную, исламизм оплакивает свои провинции, опустелые ~или обитаемые неверными.
Там, где были мечети, ныне стоят церкви с своими колоколами и крестами.
Наши святилища стали немым камнем и плачут, наши налои - деревом безжизненным и тоскуют!
О ты, небрегущий указаниями счастия, ты, может быть, спишь, но знай, что счастие всегда бодрствует.
Ты ходишь гордый и восхищенный своим отечеством. Но разве у человека есть отечество после потери Севильи?
О, это бедствие заставляет забыть все прежние бедствия, и никакое не заставит забыть о нем.
Вы, носящиеся на быстрых, красивых скакунах, летающие, подобно орлам, между сталкивающихся мечей, -
Вы, вращающие острые мечи Индии, которые сверкают, как огни между черными облаками пыли, -
И вы все, там за морем живущие мирно и обретающие в своих странах славу и силу, -
Разве не дошло до вас вести об андалузцах? А посланные давно уехали известить вас о наших несчастиях.
Сколько злополучных умоляло вас о помощи! Но ни один из вас не встал помочь им, и они теперь мертвы или в плену.
Что это за смуты между вами? разве вы не те же мусульмане! все братья, служители одного бога.
Неужели нет между вами душ гордых и великодушных? Разве уже нет никого защитить исламизм?
О, как они унижены ныне неверными, эти андалузцы, еще недавно столь славные!
Вчера еще они были властителями у себя - теперь они рабы в земле неверных.
О, если б ты видел, как плакали они, когда их продавали, ты обезумел бы от печали.
Да и кто бы мог перенести, видя, как они бродят оторопелые, не имея другой одежды, кроме лохмотьев рабства?
Кто мог бы перенести, видя горы между ребенком и матерью, все равно, если б была стена между духом и телом;
Видя в слезах и тоске молодых девиц, прекрасных, как солнце, когда встает оно, все из кораллов и рубинов, - гонимых варварами на унизительные работы?
О, от такого вида сердца разорвались бы от скорби, если бы оставалась еще в сердцах хоть капля исламизма!".
Но восторженная эпоха исламизма давно миновалась; Африка равнодушно смотрела на бедствия своих андалузских единоверцев; наконец, отнята была у них их последняя "светлая звезда неба", их обожаемая Гранада. Раздраженные семисотлетнею борьбою, испанцы не довольствовались уже совершенным покорением мавров: началось преследование религиозное. Побежденных приняла в свои руки инквизиция и начала обращать в католичество. Им велено было оставить свой родной язык и одеваться по-испански; арабская одежда была запрещена, женщинам велено было ходить с открытыми лицами. Кроме того, запрещены были арабам употребление бань, музыка, пение, все их обычные забавы. Напрасно молили они о пощаде: фанатизм не знает чувств милосердия; инквизиция нарочно вызывала восстания для того, чтоб еще более преследовать неверных. Особенно осталось в памяти испанцев последнее восстание мавров, вспыхнувшее в Альпухаррах (Serrania de Ronda),4 горных цепях, с обеих сторон облегающих Малагу. Много испанцев и в особенности монахов погибло при этом восстании, которое кончилось, как и предшествовавшие, еще большею гибелью для мавров. Их вера, их обычаи, их нравы были у них отняты; в начале XVII века им оставалась только земля, на которой они жили. То была уже не простая политическая борьба: дело шло об истреблении всего племени.
Еще в 1602 году епископ Валенсии Хуан де Рибера представил Филиппу III записку о необходимости изгнания его неверных подданных. В ней советовал он королю оставить только юношей, разослав их по каторжным работам, и младенцев, для воспитания их в католической религии. Архиепископ толедский, дон Фернандо де Сандоваль, напротив, требовал немедленного истребления вообще всех мавров с женами и детьми. Записка Риберы была принята благосклонно. Ободренный этим, Рибера представил в 1609 году другую с целию: 1) доказать необходимость изгнания мавров, если желают спасти государство от немедленного вторжения неверных, и 2) успокоить короля касательно сомнении, могущих тревожить его совесть.
"Да возьмет себе государь в образец своих славных предшественников, которые изгнали из своих областей жидов, хотя жиды были гораздо безопаснее мавров, ибо они никогда не были еретиками или отступниками и никогда не были обвиняемы в сношениях с врагами государства. (Мавры, принужденные принять католичество, втайне продолжали следовать исламизму и имели постоянные сношения с африканскими арабами и преимущественно с Марокко.5)
"Славный предок короля, Карл I (V), самый мудрый и великий государь своего века, повелел маврам принимать святое крещение или оставлять Испанию. Он надеялся, что, приняв крещение, они соделаются вместе с христианами и верными подданными. Но ныне не подлежит сомнению, что он обманулся в своем ожидании.
"Пагубные последствия, происшедшие от терпимости к тем, которые изменили истинной вере, всего лучше можно видеть во Франции. В течение почти полувека католические подданные этой страны постигнуты были всеми ужасами междоусобной войны; а если бы короли французские исполняли меры, предписанные церковию, и предали бы смерти или изгнали бы из своего королевства своих еретичных подданных, то, конечно, избежали - бы несчастных последствий своего послабления и сохранили бы чистоту веры.
"Выгоды духовные и светские необходимо требуют изгнания мавров; иначе мавры в непродолжительном времени завладеют всеми богатствами королевства; ибо не только в их руках находится промышленность, но они бережливы и воздержны, работают за небольшую плату и довольствуются барышом весьма умеренным, чего невозможно испанцам. От этого происходит то, что испанцы большею частию не могут заниматься торговлею и работою и находятся в бедности. Деревни, обитаемые испанцами в Кастильи и в Андалузии, весьма беднеют жителями, тогда как деревни мавров преуспевают в народонаселении и довольстве. Испанцы, наемщики земель самых плодородных, не в состоянии платить денег за наем; мавры же, возделывающие землю самую дурную, заплатив владетелям ее третью часть сбора, не только могут сами кормиться, но еще ежегодно увеличивают свое состояние. Повсюду перемешаны они с христианами, повсюду пример их разливает яд магометанства; церкви и алтари поруганы их лицемерною покорностию и лишь наружным исполнением святых обрядов католической религии. Кроме того, они говорят также по-кастильянски, ум их более просвещен, им лучше известно настоящее положение Испании, и вследствие того они могут иметь опасные сношения с державами, враждебными могуществу Испании".
Рибера выводит из этого, что через несколько лет мавры превзойдут христиан богатством и числом и Испания подвергнется величайшим опасностям, если король не решится немедленно выслать из нее всех мавров, "удержав тех из их детей, которые не достигли еще пятилетнего возраста, для воспитания их в католической вере. Впрочем, и молодых может король удержать, употребив их частию на работы на галерах или на золотых приисках в Америке, а частию продав в рабство в Испанию и Италию. И такая строгость была бы, конечно, весьма справедливою к людям, заслуживающим, по своим преступлениям, смертного наказания. Перевоз же их в страны, имеющие одинаковую с ними веру, будет особенным знаком милосердия королевского".
Архиепископ толедский пристал к мнению Риберы; главный министр Филиппа III герцог Лерма одобрил его: изгнание было решено и повеление о нем обнародовано в 1609 году.
Оно предписывало маврам в течение трех дней, считая от обнародования его, изготовиться к отъезду в назначенные им приморские города, откуда суда будут перевозить их в Африку, и, кроме того, под смертною казнию, запрещалось им, до приезда королевских комиссаров, которым поручено было отправление их в приморские города, выезжать из тех мест, где застало их повеление. Также под смертною казнию запрещалось им вывозить с собой золото или серебро. В Бургоне повешены были 23 мавра за то, что нашли при них скрытые деньги и дорогие камни.
Знатным владельцам земель в провинции Валенсия дозволено было оставить у себя шесть мавританских семейств из рта, чтоб они учили христиан рафинированию сахара, сбережению риса в магазинах и поддерживанию каналов и водопроводов.6 Дети моложе 4 лет могли с согласия своих родителей остаться в Испании; равным образом дозволялось также остаться всем тем из мавров, которые представят свидетельство священников своего прихода об их совершенном отречении от магометанства и о точном исполнении всех католических обрядов.
Я привожу здесь только главные пункты повеления. Мавры были поражены ужасом; напрасно предлагали они правительству вносить утроенные налоги, напрасно просили они заступничества у французского Генриха IV, который был тогда в раздоре с Филиппом III, напрасно предлагали Генриху IV принять протестантство; религиозный фанатизм не хотел принимать никаких условий; Генрих, занятый своими смутными делами, не. обратил почти на них внимания, и роковое повеление было приведено в исполнение. Порученные фанатическим, жадным к добыче матросам, множество мавров погибло в переезде. Испанский историк того времени Фонсека ("Justa expulsion de los Moriscos") ("Справедливое изгнание мавров" (исп.).) называет двух капитанов кораблей, которые бросили в море всех мавров, принятых ими для перевоза в Африку. Кроме того, множество судов, нагруженных маврами, были занесены бурею на береговые отмели и разбились, так что в продолжение некоторого времени береговые жители Прованса называли сардины - гранадинами, по имени гранадских мавров, и не ели их, полагая, что они питались человеческим телом.7 Немногим были счастливее и те, которым удалось, наконец, достигнуть берегов Африки: большая часть их погибла от голода и лишений среди знойных пустынь.
Трудно определить в точности число мавров, подвергшихся изгнанию; известно только, что из одной провинции Валенсии вывезено было их 140 000. Целые провинции, тысячи деревень и местечек обезлюдели; поля преданы были запустению, и земледелие упало до того, что преемник Филиппа III принужден был, для поощрения его, давать дворянские почести тем, которые займутся обработыванием земли. Но заброшенные поля Испании до сих пор свидетельствуют, как мало имела успеха эта мера. Тяжело отозвалось это изгнание на торговле и промышленности. Мавры особенно были наклонны к торговле и фабричным работам. Сукна Мурсии, шелковые материи Альмерии и Гранады, кожи и сафьян Кордовы продавались тогда по всей Европе. Мавры устроили в Испании дороги, прорыли каналы, очистили для судоходства реки, соединили торговыми сношениями все города Испании. После изгнания их исчезли даже самые предания их промышленности, фабрики пали по недостатку рабочих рук, за ними торговля и промышленность; поля лежали невозделанными, искусственные водопроводы развалились, опустелые дома деревень разрушились, и вместо трудолюбивой, живой деятельности в горах Андалузии воцарилась тишина кладбища.
Для меня, жителя северных равнин, южные горы имеют какую-то необъяснимую прелесть; глаза, привыкнув с младенчества свободно уходить в смутную даль, ограниченную темною и мертвою линиею горизонта, с какою-то ненасытною негою блуждают по этим высотам, на которые каждый час дня кладет свои особенные тоны колорита. В равнинах - природа только на первом плане, так сказать, у ног; дальше - одно небо и пустое пространство, которое невольно склоняет к задумчивости и грусти: отсюда, вероятно, и склонность к мечтательности в жителях равнин. В горах надо проститься с этою туманною беспредельности"): глаза всюду встречают не однообразную, серую даль, а яркие переливы зелени или утесы и скалы, которым солнце и воздух сообщают нежные радужные цвета, Я думаю даже, что живописец, живущий в равнинах, едва ли будет хорошим колористом: только в горах можно понять все очарование солнца и тени и радужную их игру. Утром горы лежат в синем, чуть прозрачном тумане, сквозь который едва отделяются их очертания; облака, застигнутые на отлогостях и в ущелиях затишьем вечера, ранним утром розовые, потихоньку встают и уходят; постепенно, как солнце возвышается, туман становится прозрачнее и голубее; вот начинают обозначаться зеленые отлогости, красноватые скалы, темные ущелия. В этой воздушной, радужной игре цветов и лучей есть что-то музыкальное: не живопись - перед этими красками все наши краски кажутся грязью, - а симфония, сыгранная оркестром, может только дать понятие об этом чудном разнообразии и гармоническом сочетании цветных тонов. Как смелы, резки и вместе нежны эти переходы! Каждая неровность, каждый уступ кладут свои оттенки, которые беспрестанно меняются с движением солнца, пробегающие тени облаков еще более разнообразят эту игру света. В полдень туман исчезает, оставив по себе лишь прозрачный голубой пар, в котором чувствуется что-то знойное и сонное. Есть в полдне минута, когда солнце стоит на самой высоте горизонта и лучи его падают перпендикулярно: яркость их так сильна, что все разнообразие горных тонов исчезает, утопая в свете; горы теряют свою массивность и становятся воздушными, словно прозрачными: в эти минуты они принимают какой-то идеальный вид.
Чем ниже опускается солнце, тем становится золотистее светло-голубой эфир, облегающий горы: снова начинает выступать разнообразие цветных тонов. Но косвенные лучи солнца уже изменили прежнее расположение их: зелень, скалы и ущелья начинают выступать с новыми оттенками. Постепенно исчезает золотистый пар, раскрывая горы во всей их осязательной массивности. Радужная дымка, лежавшая на них с самого утра, совершенно исчезла: теперь картина гор начинает походить на заключительные, восходящие аккорды симфонии. В эти минуты чувствуешь, что то же очарование, которое для ушей лежит в звуках, для глаз заключается в цветах. Вот горы покрылись золотисто-палевым цветом; но скоро начинают пробегать по ним легкие, лиловые тоны, и все сильнее и все гуще, и через минуту горы облиты лиловым сиянием; как нежатся, утомленные яркостию прежних цветов, глаза на этом мягком, ласкающем цвете, с каким-то задушевным стремлением хочешь подолее насмотреться на него! Но все больше и больше рдеют лиловые горы, и мгновенно разливается по ним яркий огненный пурпур; с минуту стоят они словно объятые красным пламенем... нет сил смотреть на этот ослепительный блеск... он слабеет уже - это заключительный аккорд горной симфонии. Последние кровавые лучи заката едва на мгновение обольют еще горы алым светом, как уже низовые отлогости их тонут в сером ночном тумане; солнце скрылось, и только легкое розовое мерцание догорает кой-где на высоких вершинах.
И каждый день с ненасытною негою смотрю я на горы, и каждый день все мне кажется, что только сейчас увидел их. Сколько раз благословлял я судьбу за то, что я родился и вырос в стране равнин и унылой природы, а не на юге: тогда бы мои глаза давно привыкли к горным красотам южной природы и не ощущали бы этого наслаждения, сердце не билось бы этим блаженством; я не чувствовал бы тогда во всем существе своем этой неги, которая проникает мой организм среди южной природы.
В моих частых прогулках верхом по окрестностям Малаги не раз случалось мне заблудиться в горах; однажды, отыскивая дорогу к городу, встретил я крестьянина лет пятидесяти, с выразительными, острыми чертами лица, загорелого до бронзового цвета. Он был в темном изорванном плаще. На вопрос мой он отчетливо рассказал мне о дороге к городу и шел со мной с полчаса, разговаривая, наконец остановился, вежливо снял шляпу и в отборных словах поблагодарил меня за честь, которую я доставил ему своим обществом,прибавив, что ему надобно свернуть в сторону, в ближайшее селение. Я счел это желанием получить что-нибудь за труд и опустил уже руку в карман за мелкой монетой, как крестьянин, увидев мое. движение, поспешно надел свою шляпу и замахал рукою, говоря:
"Нет, нет, синьор, я беден, но я кавалер, - и, уходя, еще прибавил: - да, мы бедны, но мы все кавалеры".
Как несправедливо ходячее по Европе мнение о враждебности испанцев к иностранцам! Постоянно я встречаю здесь только дружелюбных, услужливых людей, в которых никогда не замечал я даже тени враждебного чувства к иностранцам, которое так живо, например, во французском народе. Лодочники, содержатели верховых лошадей, деревенские жители, работающие на виноградниках, с которыми вступаю я в разговор, прогуливаясь верхом, зажиточный поселянин, к которому иногда заезжаю ошибкою, считая дом его за венту, - во всех равно нахожу я приветливость, врожденное достоинство и обхождение, исполненное самого тонкого приличия. Но, кроме этого, андалузец натурально изящен, elegant и distingue, (элегантен и благовоспитан (франц.).) вовсе не думая об этом. Разумеется, испанский простолюдин и к себе требует такой же учтивости, какую оказывает сам, и очень неловко будет здесь тем, которые вздумают обращаться с испанским простолюдином так же повелительно и с таким же гордым пренебрежением, с каким обращается в Европе горожанин с мужиком. Пословица "по платью встречают" здесь не имеет приложения: величайшая учтивость здесь повсеместна, и это без всякой приторной снисходительности с одной стороны, равно как и без малейшей требовательности с другой. Впрочем, вы не думайте, чтобы простой народ в Испании, даже погонщики мулов, был так же груб и невежествен, как в других странах Европы, не исключая и Франции: напротив, старинная испанская церемонность и вежливость проникли здесь в самые низшие общественные слои; кроме того, в разговорах между собою мужики постоянно употребляют "ваша милость" (Vuestra merced, в сокращении Usted), и это до того вошло в испанский язык, что даже дети, играя на улице, не иначе говорят друг другу, как "ваша милость". Какое-то самоуважение, какая-то важная церемонность, вероятно, сложившаяся из старинных рыцарских, (Ни в одной стране рыцарство не держалось так долго, как в Испании, где, например, уже в XV веке еще бродили странствующие рыцари, а один из них, по имени Суэро де Киньонес, поселился у моста Орвиго и целый год жил тут, рассылая герольдов по дворам европейских государей и арабских владетелей, с извещением, что каждый рыцарь, который захочет проехать через этот мост, должен сразиться с ним. И находились охотники^ которые издалека приезжали помериться с ним оружием. Он держал при свое публичного нотариуса, чтоб тот вел самый подробный отчет о каждом поединке. Впоследствии отчет этот в сокращении издан был в Саламанке в 1588 году францисканским монахом Хуаном де Пинеда, под названием: "Libro del Passo honroso defendido рог el excelente Caballero Suero de Quinones" Книга о Проезде чести, защищаемом выдающимся рыцарем Суэро де Киньонес (исп.).) монархических и религиозных нравов, лежит на всех манерах, даже на быте испанца, и в этом отношении они гораздо более приближаются к народам Востока, нежели к европейцам.
Раз случилось мне провести в горах очень занимательный день. Чудное, свежее утро очень рано потянуло меня за город. Я поехал по направлению к Ронде. Долго спускаясь и поднимаясь с горы на гору, не встречал я ни одного жилья; наконец, в самом романтическом местоположении увидал я совершенно одинокую венту. Было уже гораздо за полдень, лошадь моя устала, и сам я чувствовал большую пустоту в желудке. Я подъехал к дому; хозяин, вероятно, услышав шаги моей лошади, вышел ко мне навстречу: это был молодой человек, красивый и статный, как вообще все андалузцы. Попросив его позаботиться о моей лошади, я вошел в дом. Тут встретил я жену его: это был самый лучший тип того, что называется здесь morena andaluza (темная андалузка). На ней было черное платье с бахромою; в черно-синих волосах полураспустившийся алый месячный розан; большие черные сверкающие глаза отсвечивали у ней каким-то красноватым блеском; лицо желто-бронзового цвета, от него веяло здоровьем и свежестью, как от желтого, зардевшегося на солнце персика. Несколько прихотливая грация ее движений показывала, что андалузка знала и чувствовала красоту свою. С кокетливою заботливостью очистила она мне свою комнату, в которой висели на стене пара кастаньет и две гитары; внизу их на столе лежало множество романсов и песен, напечатанных на скверной серой бумаге. Освежившись холодною ключевою водою от солнечного зноя, который все утро палил меня, я воротился в общую залу, которая была собственно кухней. Хозяйка хлопотала около огромного очага за приготовлением обеда. Тут увидел я еще двух молодых людей, очень красиво одетых по-андалузски и вооруженных. Мы молча раскланялись. Мне известно было, что горы между Рондою и Малагою, по причине своих ущелий и трудных дорог, служили главным путем провоза контрабанды, и легко было понять, что вента, по своему уединенному положению, непременно была в близких сношениях с контрабандистами; но я знал также, что в качестве иностранца я с этой стороны не должен был опасаться для себя никаких неприятностей. И, действительно, как я мог заметить по некоторым их вопросам, они сначала приняли меня за француза, желающего найти подрядчика для провоза контрабанды. Когда я сказал, что я русский путешественник и из Малаги, гуляя, нечаянно заехал сюда, молодые люди и. хозяин, которые держали со мной какой-то деловой тон, стали очень разговорчивы и приветливы. Эта приветливость началась, как здесь водится, с сигар, которые предложил мне один из молодых людей, причем не преминули расспросить о России. Впрочем, вопросы их ограничивались одним: "Очень холодно в России? В России всегда зима?". Обед состоял из густого супа с горохом и ветчиною и потом жареной баранины; все это мы запивали белою, несладкою малагою. После обеда anisado (анисовая водка, которую здесь пьют после обеда) еще больше расположила к веселости; мы вышли и, закурив сигары (после обеда я поспешил им предложить свои сигары), легли на траву, перед вентою. Хозяин принес гитару и бренчал на ней, подпевая вполголоса какую-то песню. Вид со всех сторон был великолепный: вента стояла в углублении высокой, крутой скалы; около нее из ущелия падал быстрый ручей, распространяя около себя освежающую влажность, благодаря которой вента окружена была сильною растительностию и густыми апельсинными деревьями. Такие из скал падающие ручьи очень часты в здешних горах; их называют здесь nacimientos - рождениями; они-то и поддерживают местами тропическую растительность в этих раскаленных солнцем местах. Вокруг подымались скалистые горы, большею частию темного цвета. Один из молодых людей оказался искусным певцом; он взял из рук хозяина гитару и с большою ловкостию пел андалузские песни, мелодии которых не столько требуют искусства, сколько особенной ловкости, как наши цыганские песни. Кроме этого, андалузские песни отличаются от песен остальной Испании необыкновенным удальством и чувственностию содержания, так что большая часть из них непереводима. Я, для примера, приведу только одну, которая поется не в одном простонародье, а во всех классах, равно мужчинами и девушками, и никому здесь в голову не придет находить тут что-нибудь предосудительное; мелодия ее очень увлекательна.
Tu Zandunga у un cigarro
Y una сапа de Xeres,
Mi jamelgo у mi trabuco,
Que mas gloria puede haber?
Ay manola, que jaleo!
No ya tanto zarandeo,
Que me turbo, me mareo
Solo al ver tu guardapies.
Con tu pierna у tu talle
Vas derramando la sal
Y a los hombres dejas muertos
Con tu modo de mirar.
Quien me disputa el derecho
De gozar tu bianco pecho,
Cuando me encuentro deshecho
Al mirar tu guardapies?
Eres tan zaragatera
Cuando empiezas a bailar
Que con ese cuerpecito
Me jaces desesperar.
Otro salto que me obliges.
Vuelveme a ensenar las ligas,
Que estoy pasando fatigas
Por mirar tu guardapies.
"Когда у меня ты, моя красавица, (Zandunga - андалузское слово, собственно значит - смуглая, страстная девочка.) сигара да бутылка хереса, мой конь и мой трабуко (Короткое ружье с широким отверстием.) - какого еще счастья желать мне? Ах, душа моя, вот так жизнь! Да не вертись так - у меня кружится голова от одного вида твоей оторочки. (Guardapies называется низ юбки, оторочка ее, вырезанная городками. Их носят щеголихи из простого народа.)
Своей ножкой и талией ты рассыпаешь вокруг себя очарование (Буквально - ты сыплешь соль вокруг себя.) и мертвишь мужчин своей особенной манерой смотреть. Кто посмеет оспорить у меня право наслаждаться твоей белою грудью, если я становлюсь вне себя уже от одного вида твоей оторочки!
И такая ты быстрая и легкая, когда начнешь танцевать, что это милое, маленькое тельце приводит меня в отчаяние... Одолжи, вспрыгни... дай увидеть мне твои подвязки... я уж весь истомился, смотря на твою оторочку".
Но возвращаюсь к моему молодому певцу. Солнце между тем стало закатываться, и тоны гор сделались разнообразнее; вдали от лиловых отлогостей резко отделялся ряд совершенно красных скал, и так ярко горели они на последних лучах солнца, что я невольно проговорил, указывая в ту сторону: вот удивительные красные скалы!
Это, сеньор, гора Бермеха, - отвечал молодой человек, - там пролилось много христианской крови; а вот этот утес, что наклонился и потемнее, - это "скала влюбленных".
Много пролито крови? В то время, когда здесь были французы?
Нет, сеньор, во времена мавров.
Надобно заметить, что здесь все народные рассказы, начиная от рассказов о кладах, непременно ведутся от времени мавров и очень похожи между собою. Я не стал расспрашивать, опасаясь, что андалузец начнет одно из тех длинных повествований о маврах, от которых мне не раз приходилось скучать; но вместо рассказа молодой человек взял оставленную им гитару и, после продолжительного ряда мольных аккордов, запел старинный, прекрасный романс о том, как в одном из восстаний мавров погибло в этих местах испанское войско. Вот он в переводе:
Рио-Верде, Рио-Верде! (*)
Ты течешь, покрыта кровью, -
Христианской свежей кровью, А не кровью мавританской.
Меж тобою и Бермехой Много рыцарства погибло.
Пали герцоги и графы, Пали храбрые сеньоры.
Там убит был Урдиалес, Человек большой отваги.
По крутому горы скату Убегает Сааведра;
Следом гонится отступник, Хорошо его знававший, И, воскликнув очень громко, Речь такую к нему держит:
"Сдайся, сдайся, Сааведра.
Хорошо тебя я знаю, Я видал, как забавлялся Ты на площади севильской Славной рыцарской забавой;
И родных твоих всех знаю, И супругу, донью Клару.
Был семь лет твоим я пленным, И житье мне горько было, А теперь моим ты будешь, Иль я сам расстанусь с жизнью".
Сааведра то услышал И как лев он обернулся..
Мавр пустил в него стрелою, Но стрела промчалась выше;
Тут копьем своим тяжелым Его ранит Сааведра -
Мертвый падает отступник От великой такой раны.
Окружили Сааведру Больше тысячи арабов И в великой своей злобе На куски его разняли.
В это время дон Алонсо Бой выдерживал великий: Перед ним был конь убитый, За конем, как за стеною, Прислонясь спиной к утесу, Он отважно защищался.
Много мавров перебил он, Да в том пользы было мало.
Потому что нападают Все сильнее и сильнее, Нанося большие раны, И такие, что он мертвый Пал меж вражьими толпами.
Тяжко раненный, спасался Граф Уренья с человеком, Все тропинки твердо знавшим;
Много мавров перебил он Храбростью своей великой, Но гнались за добрым графом Те, которые остались.
Пал убитый дон Алонсо, И жизнь новую нашел он В славе вечной и бессмертной За свой подвиг и за храбрость. (**)
(* Рио-Верде - река, протекающая в горах Ронды, буквально значит - зеленая река.
** Считаю нужным приложить романс в подлиннике. Может быть, перевод мой не передает мужественной, простодушной, истинно народной прелести оригинала:
Rio verde, rio verde,
Tinto vas en sangre viva,
En sangre de los cristianos,
Y no de la morerla:
Entre ti у sierra Bermeja
Murio gran caballeria,
Murieron duques у condes,
Senores de gran valia.
Alli murio urdiales,
Hombre de valor у estima.
Huyendo va Saavedra,
Por una ladera arriba,
Tras el iba un renegado,
Que muy bien le conocia,
Con algazara muy grande
Desta manera decia:
"Date, date, Saavedra,
Que muy bien te conocia;
Bien te vide Jugar canas
En la plaza de Seville,
Y bien conoei a tus padres
Y a tu mujer dona Clara.
Siets anos fuf tu cautivo
Y me diste mala vlda,
Y ahora tu seras mio -
О me costara la vida".
Saavedra que lo oyera
Como un leon revolvia;
Tirfile el moro un quadrillo
Y por alto hizo la via.
Saavedra con su lanza
Duramente le heria;
Cayo muerto el renegado
De aquella grande herida,
Cercaron a Saavedra
Mas que mil moros que habia
Hieieronle mil pedazos
Con sana que le tenian,
Don Alonso en este tiempo
Muy gran batalla hacia;
El caballo le hablan muerto,
Por muralla le tenia,
Y arrimado a un gran pennon
Con valor se defendia,
Muchos moros tiene muertos
Pero poco le valia,
Porque sobre el eargan muchos
Y le dan grandes neridas,
Tantas que cayo alli muerto
Entre la gente enemiga.
Tambien el conde de Urena
Mai herido en demasia
Se sale de la batalla
Lievado por una guia.
Que"sabla bien la senda
Que de la sierra salla;
Muchos moros deja muertos
Por su grande valentla.
Tambien algunos se escapan
Que al buen conde le seguian:
Don Alonso quedo muerto,
Recobrando nueva vida
Con una fama inmortal,
De su esfuerzo у valentia.)
С какою удивительною свежестью сохранились здесь исторические воспоминания! Память о битвах с маврами так еще жива в андалузцах, так горяча, как будто недавно только кончилась борьба эта. Здесь каждый крестьянин знает замечательные события своей провинции за три и четыре века назад - разумеется, без хронологического порядка, и постоянно мешает их с разными поэтическими преданиями, потому что знает их не из книг, которых он не читает, а из рассказов и романсов, перешедших через двадцать поколений.
Ехать мне было поздно, и я решился переночевать в венте. В пять часов утра лошадь моя была уже оседлана, и на желание мое проститься с моими вчерашними знакомцами хозяин отвечал, что они ушли еще на рассвете. Расспрашивать о них я счел неприличным, уверенный в их ремесле.
Несмотря на все строгости, какими испанские таможни мучат путешественников, контрабанда здесь так же сильна, как и при Эспартеро, которого французская партия упрекала особенно в том, что он будто бы сквозь пальцы смотрел на контрабанду из угождения друзьям своим англичанам. Правда, я видел раз торжественное объявление малагской таможни о том, что она где-то на берегу захватила несколько кип запрещенных товаров, но здесь, между тем, известно, что на каждую захваченную кипу спокойно проходит в другом месте сотня кип. В официальном английском отчете о внешней торговле за 1845 год (Progress of the nation by Portes), ("Прогресс нации" Портеса (англ.).) который нашел я здесь в Коммерческом клубе,8 значится, что в последние десять лет вывезено из Гибралтара в Испанию табаку на восемь миллионов фунтов стерлингов (около 50 миллионов серебром). А ввоз табаку в Испанию решительно запрещен; следовательно, все это ввезено посредством контрабанды. Французы, которые в журналах своих с таким бескорыстным негодованием упрекают англичан за их контрабандную торговлю, сами весьма деятельно занимаются ею через свою пиренейскую границу. Например, в отчете французского министра торговли, случайно мне попавшемся здесь в руки, значится, что в 1843 году вывезено из Франции в Испанию бумажных товаров на 36 миллионов франков. Но ввоз в Испанию бумажных товаров запрещен испанским тарифом, поддерживающим каталонские фабрики; следовательно, вся эта масса товару провезена контрабандою. В Каталонии сами фабриканты занимаются контрабандою; получа таким образом французские или английские изделия, они ставят на них свое фабричное клеймо и безопасно продают за испанские. Люди, хорошо знающие эти дела, говорили мне здесь, что в Байоне, Перпиньяне и Марсели есть банкирские дома, застраховывающие контрабандный ввоз, смотря по товару, от 15 до 50 процентов с франка ценности товара. Не думайте, впрочем, что контрабандисты в Испании принадлежат к тому классу несчастных бродяг, которые рискуют своею жизнию из-за какой-нибудь безделицы; напротив, они составляют здесь род военно-коммерческого общества и пользуются уважением; их считают в Испании более 50000 человек. Во всех других землях контрабандисты вербуются из самого дрянного и грубого общественного осадка: здесь контрабандист не только должен иметь значительный капитал, но еще и репутацию честного, ловкого и храброго человека. Я разумею здесь контрабандного подрядчика, который, сторговавшись с хозяином товара, берет на себя провоз его. Он должен иметь наготове значительное число мулов. Конвои его хорошо вооружены верхом и доходят, смотря по опасности, до 50 человек; он должен еще отвечать за честность каждого из своих людей. Разумеется, ему случается иногда мирно улаживать дело; но, обеспеченный со стороны береговой стражи, он должен входить в сношения с начальством гражданским. Груз ста или более мулов невозможно за один раз ввезти в город, он должен делить его на несколько партий и для ввоза каждой входить в сделку с разными ведомствами гражданского управления. Случается, что вследствие невыгодных сделок контрабандист несет убытки и разоряется; тогда он делается caballista - вором верхом. Эти два класса в Испании постоянно поддерживают, друг друга, потому что разбогатевший caballista снова делается контрабандистом, и на той дороге, где возится контрабанда, никогда не является шайка разбойников.
Мне еще не случалось говорить об одной из оригинальных особенностей Испании, именно об ее разбойниках. До сих пор мне удалось не встречаться с ними, и я готов бы считать их за выдумку путешественников, если б множество рассказов, слышанных мною здесь о них, и на днях расстрелянные двенадцать человек в Гранаде поневоле не убеждали меня, что в Испании не перевелась еще одна из ее принадлежностей. И, несмотря на это, я с удивлением узнал, что суды здешние гораздо больше внушают ужаса в мирных людях, нежели рыцари больших дорог. Если здесь в городе случается убийство, то вместо разыскания убийцы прежде всего берут тех, которые подняли убитого, желая подать ему помощь, или жителей дома, возле которого найдено тело. Если на улице послышится крик о помощи, двери ближних домов тотчас наглухо запираются, но не из страха воров, а из боязни, чтобы раненый не вздумал искать помощи в каком-нибудь доме; а суд потом придет делать следствие, и чем богаче хозяин, тем хуже для него: как-нибудь припутают его к следствию, и он должен откупаться деньгами. У приехавшего со мной сюда французского торговца часами украли партию часов. Мы стоим в одной гостинице.
Вы уже дали знать об этом полиции? - спросил я его.
Нет, и знать не дам.
Как так?
Видно, что вы не знаете испанского судопроизводства! Вот я двенадцать лет езжу по Испании и не слыхал никогда, чтобы находились краденые вещи. Правда, что воры находились, но всегда без вещей... да здесь расходы по отысканию вора суд взыскивает с вас же, потому что надо же ему с кого-нибудь взыскать их, а с вора взять нечего; да он не всегда и находится.
Я сам был свидетелем потом, как пришедшему к нему escribano (секретарю суда (исп.).) француз отвечал, что не хочет разыскивать своей покражи. Устройство судопроизводства в Испании вообще таково, что здесь процессы выигрываются только деньгами, а исключения из этого, вероятно, редки; иначе суды здесь не внушали бы такого страха. Но обратимся теперь к разбойникам.
Здесь два класса воров: конные и пешие - caballistas и rateros. Воры на конях соединены в шайки, состоящие из 15, 30 и более человек. Воровство есть у них исключительное ремесло; но они имеют репутацию храбрых и вежливых людей и не иначе обращаются к путешественнику, как называя его: "Ваша милость". Они мало дорожат платьем, а берут только деньги. Говорят, будто они даже делают условия с перевозчиками товаров и с значительными фабрикантами и торговцами; путешественники же принимают меры, чтобы и денег много не терять, да и битыми не быть, потому что разбойники сильно бьют того, у кого мало находят денег. Франков 200 считается суммой достаточной; если же находят больше, то обращаются с большою вежливостию и называют muy caballero. (ваше превосходительство (исп.).) О сопротивлении никто и не думает: во-первых, потому, что в случае сопротивления путешественников ожидает непременно смерть. Rateros находятся в презрении у caballistas; это воры больше по случаю, нежели по ремеслу; у них всегда есть какое-нибудь занятие, и трудно их отличить от честных поселян. Они набираются из пастухов, лесных сторожей и даже из настоящих поселян, которым горная земля не доставляет достаточного содержания. Пастухи и лесные сторожа, например, имеют право носить оружие и, случайно сошедшись в числе 6 или более человек, грабят дилижанс и потом расходятся по своим местам, иногда на расстоянии нескольких миль один от другого, где полиции и в голову не придет их отыскать. Эти случайные воры гораздо опаснее настоящей шайки: боязнь быть узнанными заставляет их часто убивать путешественников. С этой стороны для иностранца гораздо менее опасности, нежели для туземца. Главное препятствие, которое встречает стража в своих преследованиях организованной шайки, происходит от того, что разбойники соблюдают строго правиленикогда не грабить жителей деревень и всячески быть полезными тем, у кого находят себе прибежище; нарушивший это правило тотчас же у них расстреливается. Так же беспощадно мстят они и за донос об их пристанище. Вследствие этого жители горных деревень смотрят на них очень равнодушно и вовсе не расположены наводить сыщиков на след разбойников. В Испании нет маленьких деревень; народонаселение сосредоточено или в больших городах, или в многолюдных селениях, отдаленных между собою несколькими милями, что еще больше облегчает разбойникам грабеж по большим дорогам, где близкая помощь невозможна. В южной Андалузии беспрестанно встречаются по дорогам низенькие кресты: каждый означает убийство, сделанное на этом месте. Кресты эти из камня или из дерева и ставятся или местным начальством, или родственниками убитого, и этот обычай до того в народных нравах, что случается, что сами разбойники ставят украдкой такой крест на месте совершенного ими убийства, для того чтоб проезжие поминали душу убитого.9 Большие владельцы земель, живущие в своих поместьях и, следовательно, всего более подвергающиеся опасности от разбойничьей шайки, даже платят им некоторого рода подать и оказывают услуги, заранее извещая их о преследовании полиции. Иногда услуги эти доходят до явного покровительства. Лесничий одного близкого родственника генерала Серрано попал под следствие по случаю одного грабежа, и в доме его нашли часть награбленных вещей. Но вместо того чтоб стараться освободиться от вора, он всячески хлопотал о том, чтобы затушить дело. Следственный судья, неизвестно почему, был неумолим, и лесничего осудили на двенадцатилетнюю работу в цепях при малагском порте. Но после двух недель работы генерал-капитан провинции Малаги освободил его, и лесничий снова воротился к своему хозяину. Можете видеть из этого, с какими трудностями должна здесь бороться полиция, очищая страну от воров, тем более что при розысках всякий, боясь, с одной стороны, Привязчивости суда, с другой - мести разбойников, отвечает, что ничего не видал и ничего не знает.
Теперь полиция представляет разбойников, взятых с оружием в руках, уже не в ведение местных судов, а прямо генерал-капитану провинции, и они судятся военным судом. А до этого разбойник с деньгами всегда мог если не затушить свое дело, то тянуть его в ожидании случая убежать из тюрьмы. Замечательно, что в Испании всякий заключенный в тюрьме находит в народе участие и самое большое снисхождение, и цепь каторжного в Испании вовсе не есть клеймо позора.10 Народ здесь всегда расположен видеть в осужденном не преступника, а несчастного, и presidiario, (преступник (исп.).) приговоренный на несколько лет к каторжной работе, окончив их, принимается в своей деревне не как преступник, а как несчастный приятель, с которым давно не видались. В Андалузии самые любимые рассказы в народе суть рассказы о разбойниках. Самое название caballista не значит собственно разбойник или вор, а наездник, верховой. Un caballista valiente (отважный наездник), un jague (удалец) - всегда любимые герои народных романсов. В сайнетах (небольшие народные пьесы) главные лица почти всегда контрабандисты или отчаянные удальцы, мастерски впадающие ножом и ружьем и которым ничего не значит отправить человека на тот свет. Иногда даже журналы говорят о разбойниках с некоторым почтением. Вот, например, биография Наварро, с год тому назад господствовавшего в Андалузии, напечатанная в одном Мадридском журнале ("El Castellano"): "Наварро, этот страшный начальник caballistas, грозящий превзойти знаменитого Хосе Марию, был привратником в одной школе в Кордове. Брошенный судьбою на дорогу (al camino), он теперь стал Абдель-Кадером11 Андалузии. Его физиономия и дарования ставят его вон из ряда обыкновенных разбойников. Одевается он очень просто, а не так, как контрабандисты и обыкновенные разбойники, не любит роскоши и не носит ни позументов, ни серебряных пуговиц, а простую куртку (chaqueta) и панталоны. Лошадь под ним превосходная, с заводов Santa Helena. Вооружение его состоит из двух trabucos (короткое ружье с широким отверстием) и охотничьего ружья, которым он очень хорошо владеет. Он благоразумен, умерен и враг насилий, хотя и настоятелен в своих требованиях. Рост его колоссальный (Juan у medio).12 Это настоящий nivelador (уравнитель); никогда не нападает он на бедных" и проч.
Но с тех пор как Нарваэс устроил особенный корпус, по образцу французских жандармов, под названием guardia civil, разбои значительно уменьшились и дороги стали безопаснее. А не далее полутора года между Мадридом и Толедо не было проезда от воров, да и теперь еще беспрестанно читаешь в журналах, что курьер (почта) из Мадрида в Байону был остановлен разбойниками и ограблен. Прошлого года между Севильей и Кордовой господствовала шайка Наварро. Несмотря на частые военные посты, нарочно расставленные по дороге, и даже несмотря на конвой из осьми драгун, постоянно провожавший дилижанс, редко случалось, чтоб дилижанс не был остановлен отчаянною шайкою, состоявшею из 32 человек и отлично вооруженною, против которой 8 человек конвоя были бессильны; а пока давали знать в ближний пост и подоспевало подкрепление, дилижансы были уже ограблены и шайка рассеивалась на своих отличных лошадях. Наконец дилижансы перестали ездить между Севильей и Кордовой. Наварро смеялся над всеми усилиями местных начальств; простого народа он не опасался, потому что грабил только горожан, а в тех местах, где останавливался с своею шайкою, раздавал бедным много милостыни. Кроме того, он держал себя настоящим caballero, и путешественники, попадавшиеся ему в руки, иногда не могли удерживаться от смеху при том кавалерском тоне, с каким он принимал их кошельки. Вообще андалузские caballistas слывут в Испании самыми вежливыми, тогда как ladrones (разбойники, воры (исп.).) старой Кастильи и Ламанчи считаются самыми грубыми и жестокими. Андалузские caballistas не приказывают путешественникам, как кастильские ladrones, ложиться boca abajo (ниц), никогда не берут сигар и обыскивают путешественника тогда только, когда подозревают, что он скрывает от них деньги, и только в таком случае бьют его ружейными прикладами. Мне рассказывали здесь одно забавное происшествие, случившееся прошлого года с двумя англичанами. Два богатых джентльмена приехали провести зиму в Севилье. Беспрестанно слыша об отваге и смелости Наварро и скучая однообразною жизнью Севильи, они вздумали, для развлечения, сделать визит Наварро. Из Севильи каждую неделю отправлялась в Кордову галера (Так называются здесь огромные крытые холстиною телеги; это дилижансы простого народа. Они возят также поклажи и едут на протяжных.13) на которую никогда не нападала шайка Наварро: в городе известно было, что хозяин этой галеры доставлял Наварро порох и разные нужные вещи. Кто хотел безопасно доехать до Кордовы, отправлялся обыкновенно в этой галере. Англичане обратились к хозяину ее и уговорили его, разумеется, за деньги, чтоб он доставил им случай видеть Наварро.
Наварро, конечно, был уже предуведомлен. Недалеко от Кордовы пригласил англичан хозяин выйти из галеры, подвел их к небольшому дому, одиноко стоявшему в стороне, и, оставя их тут, отправился с своей галерой. Наварро очень вежливо встретил джентльменов, пригласил их к обеду, напоил хорошим вином и решительно очаровал их своим разговором. Когда стали они прощаться, Наварро попросил их немного повременить и, вынув из стола бумагу, предложил им подписать ее. Англичане сначала не поняли, в чем дело, но, увидев потом, что это был вексель на значительную сумму, адресованный к их банкиру в Севилье, с требованием немедленно заплатить по нем подателю его, они рассердились и вздумали угрозами запугать разбойника. Наварро свистнул: в дверях показались человек десять вооруженных. "Мне было бы очень жаль, caballeros, - продолжал Наварро, нисколько не изменяя своего вежливого и спокойного тона, - если бы с вами случились здесь неприятности; я вас прошу исполнить мое желание, а то, я боюсь, мои люди будут вами недовольны". Англичане, разумеется, подписали и отправились пешком в Кордову. Наварро несколько минут провожал их и потом вежливо откланялся, сказав им, что он надеется на их молчание, если они дорожат своею жизнию. В той же галере англичане благополучно воротились в Севилью, где еще за два дня до их приезда вексель их был представлен банкиру и деньги по нем заплачены. Вскоре после этого происшествия Наварро попался в руки guardia civil и был расстрелян. Шайка его разделилась на две партии: одна скоро была переловлена, но другая, под предводительством Капаротта, любимца Наварро, долго держалась в горах Андалузии. Любопытно как образчик испанских нравов письмо из Лючены, около которой находилась эта шайка, напечатанное в Мадридском журнале "Eco de la revolucion":
"Несмотря на шайку разбойников, бродящую по провинции, город наш пользуется привилегией) совершенной безопасности, потому что многие из шайки принадлежат к его жителям. Приходят ли они в город, уходят ли, никто не говорит о их делах, не мешается в них, если даже они приводят, с собой пленного путешественника. Начальник их ездит, когда захочет, в свою деревню, где спокойно отдыхает, тревожимый только посылаемыми к нему с просьбами о покровительстве или пощаде. Сборное место шайки между Люченой и Пуэрте в сен-мигельских горах. Случается, что они в продолжение двух недель варят себе пишу в одном месте и в совершенной безопасности, охраняемые своими часовыми, расставленными на самых высоких местах. Когда посылают солдат их преследовать, разбойники всегда скрываются, проходя горными тропинками, известными только им одним, да, кроме того, они всегда заранее извещены о преследовании".
Для рассеяния шайки генерал-капитан Кордовы прибегнул, наконец, к следующему средству: в кордованской тюрьме содержался один молодой человек, осужденный на смерть за какое-то убийство из мщения. Ему обещали жизнь и свободу, если он доставит Капаротто живого или мертвого. Молодой человек, разумеется, принял предложение. Он отправился в горы, вступил в шайку, несколько времени участвовал с нею в грабежах и приобрел доверенность Капаротты. Наконец случилось, что они остались с ним вдвоем; время было после обеда, и Капаротто лег спать. Молодой человек воспользовался этим случаем: заколол его, отрезал ему голову и в винном кожаном мешке принес ее в Кордову. За это получил он не только свободу, но еще и денежное награждение. Лишенная своего атамана, шайка сама собою рассеялась.
Я хотел уже кончить это письмо, как вспомнил, что я еще не сказал вам о самом лучшем украшении Малаги - о ее женщинах, составляющих вместе с гадитанками (женщинами Кадиса) аристократию женщин Андалузии, которую народная пословица истинно недаром зовет "страною красивых лошадей и красивых женщин - el pais de buenos caballos у buenas mozas". Но, как я уже говорил вам, здешняя красота вовсе не походит на ту условную красоту, которую признают только в греческом профиле и правильных чертах. Совершенно противоположна античному и европейскому типу красота андалузских женщин: они не имеют того величавого и несколько массивного вида, каким отличаются итальянки; все они очень небольшого роста, гибкие и вьющиеся, как змейки, и более приближаются к восточной, нубийской породе, нежели к европейской. Но самая главная особенность андалузской женской породы состоит в совершенной оригинальной грации, в этом неопределимом нечто, которое андалузцы называют своим многозначительным словом sal - солью,и вследствие этого женщин - sal del mundo, солью мира. Под этим словом андалузец разумеет все, что делает женщину привлекательною, помимо ее красоты, - ее остроумие, ловкость ее походки, несколько удалую грацию ее движений, скромную, наивную и вместе вызывающую, которую имеют только женщины Кадиса и Малаги. Отсюда слово salero, которое в Андалузии слышится беспрестанно между простонародьем; даже простой народ здесь до такой степени любит эту женскую, если можно сказать, замысловатую грацию, так чувствителен к ней, что если по улице идет молодая женщина, которой походка отличается этою особенною, андалузскою ловкостию, то со всех сторон слышится ей вслед: jque salero! jque salero! Отсюда выражение cuerpo salado (соленое тело), dona salada (соленая женщина) и проч.
Действительно, южная андалузка вся состоит из женской прелести; ее грация не есть следствие воспитания, это особенный дар природы, слившийся с их историей, с их нравами и принадлежащий только одним им, потому что он равно разлит в женщинах всех классов. Можно сказать, что андалузка не имеет нужды в красоте: особенная прелесть, которая обнаруживается в ее походке, во всех ее движениях, в манере бросать взгляд (ojear), в движимости их живых физиономий, - одна сама собою, помимо всякой красоты, может возбудить энтузиазм в мужчине. "В твоей одежде нет ваты, нет подделок и крахмала, твое тело все из крепкого мяса", (*) - говорит народная андалузская песня, и это совершенно справедливо; андалузки не нуждаются в подобных прикрасах женского туалета и не упускают случая посмеяться над ними, потому что у них одних только при изящно развитых формах стан тонкий, гибкий, можно сказать, вьющийся. Но это гибкое, как шелк, тело лежит на стальных мускулах. И для каких же других организаций возможны эти народные андалузские танцы, в которых танцуют не ноги, а все тело, где спина изгибается волною, опрокинутый стан вьется, как змея, плечи касаются почти до полу, где после поз томления, в которых ослабевшие руки, кажется, не в силах двигать кастаньетами, вдруг следуют прыжки раздраженного тигра! Самое драгоценное наследие, которое оставили мавры своей милой Андалузии, заключается в этой удивительной породе ее женщин. Я заключаю это из слов одного арабского писателя XIV века, (**) которого описание гранадских женщин совершенно применяется к нынешним андалузкам: "Гранадинки красивы, но прелесть их всего больше поддерживается их грациею и особенною утонченностию, которыми они проникнуты. Рост их не досягает средней величины, но нельзя представить себе ничего прекраснее их форм и их гибкого стана. Черные их волосы спускаются ниже колен, зубы белы, как алебастр, и самый свежий пурпуровый рот. Большое употребление тонких духов придает их телу свежесть и лоск, каких не имеют другие мусульманки. Их походка, их пляски, все их движения дышат ловкостию, непринужденностию, которые восхищают в них больше всех их прелестей". Андалузка, к какому бы званию ни принадлежала она, никогда не затруднится в ответе, не смешается ни от какого разговора: на любой вопрос отвечает она с быстротою и смелостию, которые во всякой другой земле назовут бесстыдством. Так относительны понятия о приличиях! Конечно, здесь женщины необразованны; но эта живость и веселость ума, богатство фантазии, это меткое остроумие - как охотно можно отдать за них книжную образованность самых образованных дам! Дочь всякого немецкого бюргера, без сомнения, знает в тысячу раз больше любой самой образованной андалузской дамы; но андалузка обладает удивительным искусством не нуждаться во всех этих знаниях, постоянно владеть разговором и вести его как ей вздумается. Никакого понятия они не имеют о лицемерной стыдливости (pruderie). Свободно и откровенно говорят они о самых недвусмысленных предметах, но это с таким простодушием и, так сказать, наивностию чувства, что вам не пришло бы и в голову найти тут что-нибудь предосудительное. Романтизма, этой болезни северных мужчин и женщин, в них нет даже тени, и ничего им так не противно в мужчинах, как сантиментальность. Андалузка кокетлива; но она и не думает скрывать своего кокетства; оно в природе ее, и как расхохоталась бы здешняя девушка, если б вздумали упрекать ее, называя кокеткой! Вероятно, вследствие этого они не любят заниматься хозяйством; да южные женщины вообще очень плохие хозяйки и все свое время проводят в визитах, стоянье на балконе, в прогулках или просто сидят в своих комнатах в совершенном бездействии; рукоделья они очень не любят. В Европе женщина большею частию разделяет труды мужчины; испанец, напротив, любит, чтоб жена его держала себя знатной дамой, не заботясь ни о чем. От этого, может быть, они такие охотницы говорить. Но всего более поражает их наивная доверенность: если вы приняты в какое-нибудь семейство, то в течение одной недели женщины расскажут вам все, что делается в этом семействе, посвятят вас во все семейные тайны и обращаются с вами как с близким родственником. И со всем этим этикет испанский запрещает на гулянье предложить руку даже близко знакомой даме; рука об руку здесь могут ходить только муж с женой. Равным образом здесь считается неприличным женщине идти одной.
(* En tu traje no hay engrudos
Ni postizos, ni almidon
Que tu talle у pantorilla De carne maciza son.
Вечернее гулянье для здешних женщин так же необходимо, как воздух и вода. Они знают, что здесь всего более могут они обнаружить грацию своих движений - соль свою. В самом деле, их легкая, медленная, зыблющаяся походка, эта мантилья, которой прозрачность скорее обнаруживает, нежели скрывает пластические формы их стана и груди, эта быстрая, уклончивая игра веера, из-за которого они всего больше любят бросать свой впивающийся взгляд, эта смелость и свобода движений - все это действует необычайно, увлекательно, отрывает от европейской рутины и переносит в совершенно оригинальный, обаятельный мир, точно так же как Мурильо отрывает от рутины классической итальянской школы, перенося в очаровательно простую и всегда поэтическую сферу задушевной жизни. В андалузских церквах нет ни стульев, ни скамеек, пол всегда из гладкого белого мрамора и тщательно метется по нескольку раз в день. Мужчины присутствуют при службе, всегда стоя; женщины, коснувшись пальцами святой воды, тотчас же становятся на колени и, прошептав небольшую молитву, принимают особенную, небрежную, полулежачую позу, в которой складки их полных, черных платьев лежат удивительно живописно. Концы мантильи складываются тогда перекрестно под подбородком, руки лежат на груди крестом, четки в одной руке, в другой веер, который не успокаивается ни на минуту. Южная андалузка представляет собою самый совершенный тип женской артистической натуры. Может быть, вследствие этого здесь на женщин смотрят исключительно с артистической стороны. Но ведь это безнравственно! - заметите вы мне. Что же делать! Подите убедите южного человека в том, что духовные отношения выше чувственных, что недостаточно только любить женщину, а надобно еще уважать ее, что чувственность страх как унижает нравственное достоинство женщины... увы! ничего этого не хочет знать страстная натура южного человека.
Василий Боткин - Письма об Испании - 11 Малага. Сентябрь.1 , читать текст
См. также Боткин Василий - Проза (рассказы, поэмы, романы...) :
Письма об Испании - 12 Гранада и Альамбра. Октябрь.
Несмотря на всю тихую прелесть жизни и окрестностей Малаги, мысль о Гр...
Письмо из Италии
Рим, октября 29-е, 1841. ...В Рим въехал я с самым обыкновенным чувств...
В. П. Боткина. СПб. 1857 г.
После произведений поэзии путешествия везде составляют самую популярную часть литературы. По числу изданий и по отчетам публичных библиотек видно, что и в Англии, и в Германии, и во Франции рассказы о путевых впечатлениях и приключениях, о природе чужих земель и нравах народов, населяющих эти земли, читаются с большею жадностью, нежели какие то ни было другие книги серьезного содержания. Даже исследования о политических вопросах, даже исторические сочинения не могут отнять у путешествий первенства в этом отношении. В самом деле, путешествие, соединяя в себе элементы истории, статистики, государственных наук, естествоведения и приближаясь к так называемой легкой литературе своею формою, как рассказ о личных приключениях, чувствах и мыслях отдельного человека, в столкновениях его с другими людьми,- людьми, жизнь которых тем любопытнее для нас, что они живут в условиях иной обстановки, нежели публика, для которой предназначается книга,- путешествие совмещает в самой легкой форме самое богатое и заманчивое содержание. Путешествие - это отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествоведение. Каждому читателю дает оно все, что только хочет найти он.
Как везде, и у нас путешествия исстари были любимым чтением. Не заходя в старину слишком далеко, вспомним только, что новейшая русская литература началась «Письмами русского путешественника», которые читались наверное не меньше, нежели «Бедная Лиза» и «Марфа Посадница»1 «Всемирный путешествователь аббата Де- лапорта»2, несмотря на свою страшную массивность, принадлежал к небольшому числу наиболее распространенных в публике книг. Во времена Екатерины и Александра I, когда, сравнительно, переводилось у нас очень много книг, путешествий переводимо было едва ли не больше, нежели каких-нибудь других книг серьезного содержания.
Тем прискорбнее, что, когда стала у нас сильнее развиваться оригинальная литература, число путешествий, особенно путешествий по Западной Европе, не было так велико, как можно было бы желать и ожидать. Но все-таки, до последнего десятилетия, количество этих книг было довольно значительно, по сравнению с другими отраслями серьезной литературы. Довольно много выходило даже таких путешествий, которые отличались замечательными достоинствами. Так, например, в десять лет (1836 - 1846), предшествовавшие последнему десятилетию, из одних воспоминаний наших путешественников по различным странам Западной Европы можно назвать «Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии» Симонова; «Очерки Южной Франции и Ниццы» Жуковой; «Воспоминания о Сицилии» г. Черткова; «Путешествие в Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж» г. Всеволожского; «Париж, путевые заметки» г. В. Строева; «Год в чужих краях» г. Погодина; «Заметки за границею» г. Ф. П. J1.; «Прогулка русского в Помпеи» г. Левшина; «Четыре месяца в Черногории» г. Ковалевского. Не считаем различных «Путевых писем» и т. и. г. Греча.
Конечно, итог этот не велик; можно было бы даже подивиться его скудости,- в десять лет девять сочинений о всех различных странах Западной Европы! Но когда мы сравним с этим количеством число книг того же рода, вышедших в следующее десятилетие, мы должны будем назвать предыдущий период очень обильным. В 1847 году вышло «Путешествие в Черногорию» г. Попова. Затем - до настоящего времени не являлось ни одной хорошей книги, кроме «Италии» г. В. Яковлева.
Таким образом, мы не можем хвалить «Писем об Испании» г. Боткина по сравнению с другими подобными книгами в современной нашей литературе - таких книг нет, и сравнивать «Письма об Испании» у нас решительно не с чем [§§§§§§§§§§§§§§].
Но тем большую цену приобретает от этого книга г. Боткина, которая по своим достоинствам заняла бы почетное место и в самой богатой литературе. Хотя в пре- дисловии автор откровенно говорит, что он счел излишним ссылаться на газетные статьи, путешествия и исторические сочинения, которые служили ему пособием при составлении этих писем, и что многим из прочитанного воспользовался он, имея единственно в виду уяснения предмета для читателей, но тем не менее читатели не могут не быть благодарны автору за то, что он так умно воспользовался прочитанным и умел представить такую живую и полную картину страны, им описываемой. «Письма об Испании» помещались первоначально в «Современнике» (1847 и 1848 годов), и потому неуместно было бы нам распространяться в похвалах им,- да это и не нужно: все, читавшие наш журнал в то время, как он украшался письмами г. Боткина, слишком хорошо помнят его блистательные очерки Испании. Известность книги, о которой мы должны говорить, уже составлена, и нам остается только сделать обзор содержания этих «Писем» как одного цельного сочинения, проникнутого строгим единством воззрения.
Никто не знал происхождения первоначальных обитателей Испании, но надобно предположить, что они пришли туда с северо-востока, через Пиренеи. Финикияне и греки находились с ними в сношениях и основали по морскому берегу несколько городов, преимущественно для торговых целей. Затем карфагеняне короткое время владели Испанией и наконец римляне, под властию которых находилась она почти пятьсот лет. В начале V столетия после Рождества] Х[ристова] вторглись туда германские племена,- преимущественно вестготы, владычество которых пало пред храбростью и религиозным энтузиазмом арабов. Только на северо-восточной оконечности Испании сохранился небольшой остаток христианского владычества.
В продолжение 780 лет (от 712 до 1492) была Испания частию христианскою, частию магометанскою страной. Разъединение, внутренние междоусобия, честолюбие дворянства и ошибочная политика - все это замедляло окончательное решение борьбы между двумя племенами. Только женитьба Фердинанда Арагонского на Изабелле Кастильской (1469), соединив до того времени раздельные два государства в одну цельную Испанию, дала возможность уничтожить последние остатки арабского владычества. Затем открытие Америки и усмирение самостоятельного и неукротимого феодального дворянства, казалось, надолго положило прочную основу государственному могуществу Испании. Вскоре затем, при Карле V, городо- вые общины, бывшие препоною королевской власти, потеряли свою силу после известного восстания, окончившегося поражением их в битве Вильяларе 23 апреля 1521 года3.
Карл V, первый король всей Испании, возвел эту страну на вершину могущества; но вместе с тем обозначаются уже и в то время первоначальные причины ее последующего" упадка и постоянно возрастают в страшной постепенности. Мы припомним здесь только самые главные из них, чтоб сделать понятными позднейшие события ее истории.
Благотворные основания испанского государственного права не только не имели никакого дальнейшего развития, но, из преувеличенного опасения всякого противодействия, королевская власть уничтожила все гарантии прежнего общественного устройства. Созвания кортесов были совсем прекращены, и они утратили все свое прежнее значение. Вместе с этим исчезновением государственной жизни, открытие Америки бросило нацию в совершенно другое направление. Какого-то особого рода лихорадочная деятельность охватила Испанию. Много героических подвигов вызвала она, но вместе с тем и много самых ужасных варварских дел. Непостижимая жажда обогащения повела за собой многочисленные переселения в Америку, значительно ослабившие Испанию, чему также способствовали многие войны, предпринятые без достаточных причин^ неискусно веденные и несчастливо окончившиеся.
Нигде закон христианской любви и милосердия не получил такого странного и сурового извращения, как в Испании, и нигде не служил он предлогом к таким зверским жестокостям и преследованиям. По своей фанатической основе и тиранским формам инквизиция имела самое вредоносное влияние на ум и на жизнь целого народа. Она и ее ослепленные ревнители способствовали, к совершенно безумному, несправедливому и жестокому изгнанию мавров из Испании. Через это в сильнейшей степени уменьшилось и народонаселение, и образование, и деятельность, а бедность увеличилась до такой степени, что даже и до сих нор видны страшные следы ее.
Все это совпало вместе с другим, беспримерным в истории несчастием. Ни один из последующих королей Испании, начиная с мрачного Филиппа И, не был сколько- нибудь мудрым, благодетельным властелином. Напротив, их духовная посредственность и ничтожность, можно сказать, увеличивалась с каждым поколением; и кроме того, не было ни одного великого министра, который бы (как, например, Ришелье во Франции) мог заменить их неспособность. Несколько лучше, да и то в ничтожной степени, были короли ее из дома Бурбонов; при Карле III (от 1739 до 1788) даже были попытки некоторого возрождения. Но, несмотря на трехвековое, жалкое, сонное, постоянно угнетавшее управление, в народе сохранились еще и жизненная сила и мужество к настоящему обновлению.
Между тем, внутри самого государства держались взаимно враждебные провинциальные разделения: Бискайские провинции, ио происхождению своему, языку, нравам и учреждениям, отделялись от прочей Испании; Астурия и Галиция напоминали собою средневековое состояние; арагонец гордился своими прежними политическими нравами и ни в чем не хотел равняться с кастильянцем; Каталония пробовала несколько раз приобрести самостоятельность; в Валенсии, Гренаде, Кордове и вообще в Ан- далузии живы были следы восточного влияния. Всюду господствовала любовь не только к старинным, давностью освященным учреждениям, но вместе с нею и к сохранению всех укоренившихся вредных обычаев; на всякое нововведение народ смотрел с недоверчивостию и враждеб- ностию. И, однако ж, в продолжение этих темных времен своей истории испанцы сохранили свое врожденное верное чувство всего великого и благородного. Как ни трудно иностранцам сохранять беспристрастие при обсуждении такого совершенно особенного народного характера, но тем не менее почти все они согласны в том, что испанец полон преданности и верности в своем расположении,- горяч и страстен в ненависти, - терпелив, честен, надежен, умерен, одарен самым живым воображением и самым щекотливым чувством чести.
Все эти различные явления исторической жизни испанского народа отражаются в «Письмах» г. Боткина и придают особенную ясность его взгляду на характер и нравы народа, особенный интерес его очеркам.
До г. Боткина у нас так мало было писано об Испании, что большая часть русских читателей воображали эту страну каким-то громадным цветником, расширяя на весь полуостров тот благоухающий сад, который цвел иод балконом Лауры:
Приди, открои балкон. Как небо тихо!
Недвижим теплый воздух; ночь лимоном
И лавром пахнет...
(«Каменный гость».)
На самом деле Испания вовсе не такова. Ее природа скорее напоминает Африку, нежели Европу: степь, выжженная солнцем, угрюмая, грозная степь, среди которой рассеяны дивно роскошные оазисы, поражающие не столько своею грациозностью, сколько величественностью. Только очень немногие местности, как Гренада, вполне грациозны,- общий характер страны - величие, часто отзывающееся печально-страстным характером. Г. Боткин мастер изображать природу, потому что умеет сочувствовать ей, любить ее.
«Красота Испании давно вошла в пословицу (говорит он); с давних нор поэты воспевают ее апельсинные и лимонные рощи... увы! Это одно из заблуждений, существующих насчет Испании. Впрочем, может статься, за несколько сот лет оно было и иначе, теперь же ничего нельзя себо представить унылее этой природы. Но унылость эта необыкновенно величава. Представьте себе, что нигде не встречаешь дерева, по окраинам полей одни только кусты розмарина; изредка маленькие деревни, без зелени, выкрашенные темно-глинистою краскою,- и деревни эти так редки, что, встречая одну, давно забыл уже о предшествовавшей. Глаза свободно пробегают пространство в 8, 10 верст, не встречая па нем ни одного жилья, ни одной малейшей рощицы олив, ничего, кроме душистых кустов розмарина; все это объято самою прозрачною, чистейшею атмосферой. Вероятно, на этой почве могли бы расти и дуб, и липа, и каштан; в Испании богатство лежит у ног человека,- стоит только наклониться за ним; но испанцы еще не любят наклоняться».
Таково было впечатление, произведенное на него равнинами Кастилии. Проехав с севера на юг почти всю Испанию, из Севильи - этого города, который мы привыкли было воображать потонувшим среди бесконечных лимонных и апельсинных рощ, он пишет:
«Находясь в самом сердце Лндалузии, могу, наконец, положительно сказать: красота испанской природы, о которой столько наговорили нам поэты, есть не более, как предрассудок. Я разумею здесь красоту природы в том смысле, как представляют ее себе видевшие Италию. Правда, на юге Испании растительность так величава и могущественна, что перед ней растительность самой Сицилии кажется северною, но это только редкими местами; африканское солнце, так сказать, насквозь прожигает эту землю; в Алмерии, например, уже три года как не было дождя, и жители южных берегов Испании беспрестанно переселяются во французские владения Африки. Здесь часто случается, что на три мили в окружности невозможно найти воды. Не думайте, однако ж, чтоб эта пламенная природа не имела своей особенной, только ей одной свойственной красоты. Она здесь не разлита всюду, как в Италии; в ней нет мягких, ласкающих итальянских форм: здесь она или уныла и дика, или поражает своею тропическою, величавою роскошью. По дороге из Кордовы в Севилью, например, возле иного cortijo [***************] нет ничего, кроме одинокого апельсинного дерева; но надобно видеть, что это за могучий ствол и как широко раскинулось оно своими густыми ветвями: апельсинные деревья Сицилии покажутся перед ним не более, как отростками. Здесь каждую минуту чувствуешь, что имеешь под ногами огненную землю, не любящую золотой средины, на которой или корчится от зноя всякое растение, или там, где влаге удастся охладить жгучие лучи солнца, растительность вырывается на воздух с такою полнотою красоты и силы, с такою роскошью, что здесь, особенно в горах, эти чудные оазисы среди каменистых пустынь производят совершенно особенное, электрическое впечатление, о котором не может дать понятия кроткая и ровная красота Италии. Здесь и пустыня (despoblado), и голые, рдеющие на солнце скалы, и растительность дышат какою-то сосредоточенной, пламенной энергией».
Одно только из наших обыкновенных мнений о характере испанской природы вполне подтверждается г. Боткиным,- мнение о дивной чистоте ее атмосферы, об ослепительности солнечного блеска, почти непрерывно озаряющего горы и долины Пиренейского полуострова. Там, где горизонт стеснен громадными, скалистыми горами,- а большая часть Испании прорезывается горными хребтами,- тропическое солнце придает новую чудную энергию пейзажу яркими тонами, в которые одеваются горы иод его блеском.
«Для меня, жителя северных равнин, южные горы имеют какую-то необъяснимую прелесть; глаза, привыкнув с младенчества свободно уходить в смутную даль, ограниченную темною и мертвою линиею горизонта, с какою-то ненасытною негою блуждают по этим высотам, на которые каждый час дня кладет свои особенные тоны колорита. В равнинах - природа только на первом плане, так сказать, у ног; дальше - одно небо и пустое пространство, которое невольно склоняет к задумчивости и грусти: отсюда, вероятно, и склонность к мечтательности в жителях равнин. В горах надо проститься с этой туманной беспредельностью: глаза всюду встречают не однообразную, серую даль, а яркие переливы зелени, или утесы и скалы, которым солнце и воздух сообщают нежные радужные цвета. Я думаю даже, что живописец, живущий в равнинах, едва ли будет хорошим колористом: только в горах можно понять все очарование солнца и тени и радужную их игру. Утром горы лежат в синем, чуть прозрачном тумане, сквозь который едва отделяются их очертания; облака, застигнутые на отлогостях и в ущельях затишьем вечера, ранним утром розовые, потихоньку встают и уходят; постепенно, как солнце возвышается, туман становится прозрачнее и голубее; вот начинают обозначаться зеленые отлогости, красноватые скалы, темные ущелья. В этой воздушной, радужной игре цветов и лучей есть что-то музыкальное; не живопись - перед этими красками все наши краски кажутся грязью,- а симфония, сыгранная оркестром, может только дать понятие об этом чудном разнообразии и гармоническом сочетании цветных тонов. Как смелы, резки и вместе нежны эти переходы! Каждая неровность, каждый уступ кладут свои оттенки, которые беспрестанно меняются с движением солнца, пробегающие тени облаков еще более разнообразят эту игру света. В полдень туман исчезает, оставив по себе лишь прозрачный голубой пар, в котором чувствуется что-то знойное и сонное.
Есть в полдне минута, когда солнце стоит на самой высоте горизонта и лучи его падают перпендикулярно: яркость их так сильна, что все разнообразие горных тонов исчезает, утопая в свете; горы теряют свою массивность и становятся воздушными, словно прозрачными: в эти минуты они принимают какой-то идеальный вид.
Чем ниже опускается солнце, тем становится золотистее светло-голубой эфир, облегающий горы: снова начинает выступать разнообразие цветных тонов. Но косвенные лучи солнца уже изменили прежнее расположение их: зелень, скалы и ущелья начинают выступать с новыми оттенками. Постепенно исчезает золотистый пар, раскрывая горы во всей их осязательной массивности. Радужная дымка, лежавшая на них с самого утра, совершенно исчезла: теперь картина гор начинает походить на заключительные, восходящие аккорды симфонии. В эти минуты чувствуешь, что то же очарование, которое для ушей лежит в звуках, для глаз заключается в цветах. Вот горы покрылись золотисто-палевым цветом; но скоро начинают пробегать по ним легкие, лиловые тоны, и все сильнее, и все гуще, и через минуту горы облиты лиловым сиянием; как нежатся, утомленные яркостью прежних цветов, глаза на этом мягком, ласкающем цвете, с каким-то задушевным стремлением хочешь подолее насмотреться на него! но все больше и больше рдеют лиловые горы, и мгновенно разливается по ним яркий огненный пурпур; с минуту стоят они словно объятые красным пламенем... нет сил смотреть на этот ослепительный блеск... он слабеет уже,- это заключительный аккорд горной симфонии. Последние кровавые лучи заката едва на мгновение обольют еще горы алым светом, как уже низовые отлогости их тонут в сером"ночном тумане; солнце скрылось, и только легкое розовое мерцание догорает кой-где на высоких вершинах.
И каждый день с ненасытною негою смотрю я на горы, и каждый день все мне кажется, что только сейчас увидел их. Сколько раз благословлял я судьбу за то, что я родился и вырос в стране равнин и унылой природы, а не на юге: тогда бы мои глаза давно привыкли к горным красотам южной природы и не ощущали бы этого наслаждения, сердце не билось бы этим блаженством; я не чувствовал бы тогда во всем существе своем этой неги, которая проникает мой организм среди южной природы ».
Как в Африке, в Испании - где нет обильной воды, там величественная пустыня, где есть вода - там чудная сила растительности; и где почва орошается ручьями - только там действительно вся местность превращается в исполинский цветник. Немного таких мест - зато они очаровательны, и самое очаровательное из них Гренада:
«В жизнь мою не забуду того впечатления, какое испытал я, когда на другой день после моего приезда сюда пошел я по Гренаде. Представьте себе, в продолжение пяти месяцев привыкнув видеть около себя природу суровую, почти всюду сожженную солнцем, небо постоянно яркое и знойное, не находя места, где бы прохладиться от жару - вдруг неожиданно найти город, утонувший в густой, свежей зелени садов, где на каждом шагу бегут ручьи и разносится прохлада... нет! это можно оценить только здесь, под этим африканским солнцем. По городу только и слышался шум воды и журчанье фонтанов в садах. Здесь первая комната в каждом доме - сад. Часто попадаются садики снаружи, обнесенные железными решетчатыми заборами и наполненные густыми купами цветов, над которыми блестят струйки фонтанов; цветы и на террасах и на балконах [†††††††††††††††]; а когда я подошел к холму Альгамбры, до самого верху покрытому густою рощею, я не умею передать этого ощущения. Три дня горной дороги верхом, под этим знойным солнцем, просто сожгли меня; голова моя и все тело горели. Передо мной было море самой свежей зелени; прохлада, отраднейшая прохлада охватила меня. Лучи солнца не проникали сквозь гущу листьев; ручьи журчали со всех сторон; но дорожкам фонтаны били самою чистою, холодною водою. Чем выше я поднимался, тем прохладнее становилась тень. Никогда я не видал такого разнообразия, такой свежести зелени! Дикий виноград обвивался около дубов, олеандр сплетался с северным серебристым тополем, из плакучей ивы весело торчали ветви душистого лавра, гранаты возле вязов, алоэ возле лип и каштанов - всюду смешивалась растительность юга и севера. Вот климат Гренады и вот одно из ее очарований: это огонь и лед, зной и прохлада, и чем жар жгучее, тем сильнее тает снег на Сиерре, и тем стремительнее бегут ручьи и фонтаны. Это слияние воды и огня делает климат Гренады единственным в мире. Прибавьте к этому, что если ветер со стороны Сиерры Невады, то, несмотря на весь зной солнца, воздух наполнен прохладой. В этих густых аллеях редко кого встречаешь - самая нустынная тишина; но все вокруг журчит и шелестит, словно роща живет и дышит. Местами стоят скалы, покрытые зеленым мхом; но иным тоненькими сверкающими ленточками бегут ключи. Это не походит ни на какой сад в Квропе,- это задумчивость севера, слитая с влажною, сверкающею красотою юга. Я лег на прохладный мох первого попавшегося камня и долго лежал, вслушиваясь в журчанье ручьев, словно в какие-то неясные, но сладкие душе мелодии».
Нетрудно решить, от самых ли условий климата и местности зависит унылый и пустынный характер природы в нынешней Испании, или виноват в том народ, населяющий эту страну. Земля, еще не заселенная людьми, может иметь цветущий вид, - она может быть покрыта девственными лесами, роскошными лугами и пажитями. Но как скоро человек овладевает страною, это первобытное состояние природы уничтожается его потребностями,- он сжигает и вырубает леса, и как скоро население становится многочисленным, самые поля лишаются той чистой растительности, которою очаровывали прежде, почва теряет влажность с истреблением лесов и обнажается или зарастает печальными и уродливыми травами, вроде полыни, репейника, бурьяна. Только неутомимое трудолюбие человека может сообщить природе новую, высшую красоту взамен дикой, первобытной красоты, неудержимо исчеза- ющей под его ногами. Человек должен ухаживать за лесами, стеречь их, чтобы сохранить от истребления часть их, нужную для его материальных потребностей и эстетического наслаждения, должен заменить садами другую часть; он должен одеть землю нивами и искусственными лугами взамен не выносящих его прикосновения первобытных трав. Где является человек, там природа должна воссоздаваться трудом человека. Народ вносит запустение и одичалость в свою страну, если не вносит в нее культуры. И если вы видите печальной, унылой страну, имеющую оседлое население, не вините в том природу страны,- нет, знайте, что народ, ее населяющий, не хочет или не может трудиться. Природа, конечно, гораздо беднее залогами красоты в Голландии, Гольштинии, нежели в какой бы то ни было другой европейской стране,- и, однако же, Голландия и Гольштиния радуют глаз своими цветущими полями и веселыми рощами. Есть страны, в которых не может жить оседлое население,- за их красоту не отвечает человек. Но где есть возможность провести воду,- где живут земледельцы, там унылость страны свидетельствует только, что народ не может или не хочет жить в своей стране так, как должен жить счастливый народ,- не может или не хочет трудиться.
Мы сказали: «не может или не хочет» - второе из этих слов совершенно излишнее. Не хочет трудиться только тот, кто не имеет возможности трудиться в благоприятных для труда условиях. Не знаем, можно ли считать леность естественным пороком даже у немногих отдельных лиц: обыкновенно, стоит только всмотреться ближе в историю ленивца, и мы убедимся, что не природа создала его ленивцем, а обстоятельства отняли у него охоту работать. Но если поверхностные наблюдатели могут еще думать, что иные отдельные люди от природы расположены к лености, то совершенно нелепо и ненатурально воображать, чтоб целый народ мог иметь по природе особенное влечение к этому пороку. Нет, человек по природе своей находит наслаждение в труде, имеет естественную потребность работы, томится тоскою, если не работает, если бездействие не есть только отдых после работы, отдых, вызывающий на новую работу с свежими силами. Когда вы видите целое население целого округа, обезображенное кретинизмом или колтуном, вы не говорите, что по своей натуре оно должно быть уродливо,- вы приписываете его физическую болезненность неблагоприятному влиянию местных физических условий его жизни. Точно так же, когда вы видите целое племя, предавшееся тому или другому пороку, не говорите, что в натуре самого племени лежит этот порок: он развился наперекор натуре, вследствие неблагоприятных обстоятельств. Переселенные в чистую атмосферу, кретины становятся здоровы, во втором или третьем поколении становятся и красивы не менее других счастливых племен. Точно так же ленивый, пьяный, буйный ирландец, переселившись в Северную Америку, где труд его вознаграждается, становится деятельным и трезвым человеком с благородными манерами.
Есть избитая фраза: «южные народы ленивы; знойный климат расслабляет их энергию» - это избитая фраза, и больше ничего. Пороки и добродетели не принадлежат исключительно тому или другому земному поясу; - между бурятами или самоедами сластолюбие не менее сильно, нежели между жителями Отаити, и страсть к наркотическим средствам везде одинаково сильна,- мало разницы в том, опьяняется ли человек грибом-мухомором, или пенником, или опиумом, или настоем того корня, которым угощали Кука жители Сандвичевых островов. Подобно разврату, подобно страсти к затемнению рассудка наркотическими средствами, и леность развивается не вследствие климатического влияния, а вследствие исторических отношений, и, подобно тем порокам, исчезает с переменою обстоятельств народной жизни. Во времена Цезаря и Тацита германцы, британцы, галлы были отчаяннейшими лентяями, ничуть не хуже нынешних киргизов или трух- менцев 4. Римляне, конечно, не ленились пахать в те времена, когда Регул сам обработывал свое маленькое поле. Все привычки народа зависят от обстоятельств его жизни.
Теперь испанцы ленивы. Но г. Боткин замечает, что трудно найти в мире такого хорошего работника, как испанец, когда испанец, наконец, принимается за работу. Почему же он так редко считает нужным приниматься за работу? - Ему нужно очень немного, говорит г. Боткин: потребности испанца очень ограничены и очень легко удовлетворяются в его теплом климате, при чрезвычайном плодородии земли. Это совершенно справедливо. Но есть и другая причина, которую также указывает г. Боткин: праздность считается в Испании гораздо почетнейшим препровождением жизни, нежели труд, так что бедный кавальеро скорее пойдет в лакеи, нежели займется каким- нибудь ремеслом,- будучи лакеем, он сохраняет свое почетное право - ровно ничего не делать. В Испании действительно можно часто встретить слугу, который гордит- ся древностью и высоким благородством своей фамилии и гордится основательно, потому что имеет в руках генеалогические пергаменти. Само собою разумеется, каково служат эти лакеи,- вот случай, свидетельствующий о том, как успешно они отстаивают свою привилегию - ничего не делать:
«Недавно в Гренаде я был свидетелем презабавной сцены. У меня здесь есть знакомый француз, химик и дагеротипист. На днях прихожу я к нему; он держал в руке письмо и звал своего слугу, чтобы послать его отнесть письмо по адресу. Слуга только что воротился из аптеки, куда ходил за каким-то химическим составом. Он вошел в комнату, жалуясь на жар, важно посмотрел на француза и решительно объявил, что он теперь не может итти, потому что очень жарко.
- Но мне надо непременно послать это письмо! - кричал разгорячившийся француз.- Ваша милость разговаривает, как какой-нибудь идальго. Уж лучше бы вашей милости оставаться при своих дипломах.
- А ваша милость думает, что у меня нет дипломов? - возразил очень спокойно слуга: - есть, да еще такие, каких нет у вашей милости.
- Так зачем же ваша милость пошли в слуги?
- Зачем? затем, чтоб не работать, paranotrabajar».
Есть и третья причина этого явления, которая также не ускользнула от внимания г. Боткина. Эта причина, быть может, важнейшая из всех,- долговременное отсутствие хорошего управления в стране. Сами испанцы, по словам г. Боткина, говорят о своем управлении таким образом. Сан-Яго, национальный святой Испании, по кончине своей, предстал пред богом, который, за святость его земной жизни, обещал угоднику исполнить все, чего ни попросит он. «Сан-Яго просит, чтобы бог даровал Испании плодотворное солнце, изобилие во всем.- Будет, был ответ.- Храбрость и мужество народу, продолжал Сан-Яго, славу его оружию.- Будет, был ответ.- Хорошее и мудрое правительство.- Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию».
Трудолюбивые привычки могут развиться или сохраниться в народе только при хорошем управлении, которое обеспечивает каждому неприкосновенность собственности, приобретаемой его трудом, и ограждает его труд от препятствий и обременений, каким он подвергается, как скоро является произвол с беспорядками и злоупотреблениями, необходимыми своими спутниками. Ирландец в своей родине старается работать как можно меньше, потому что все выработанное должен будет отдать за наем земли,- испанец также не видит,- или, по крайней мере, до недавнего времени не видел пользы для себя в трудолюбии, потому что не был обеспечен от грабительств.
Не будем много говорить о страшной неурядице, господствовавшей в Испании со времен Филиппа II,- эта плачевная история, продолжавшаяся около трехсот лет, вся передается одним словом: произвол, безграничный и вместе бессильный произвол тяготел над несчастною страною во все течение этого долгого периода. Мы много начитались в газетах о беспорядках и злоупотреблениях, о грабежах и разорениях, которым подвергалась Испания с того времени, как появились имена христиносов и кар- листов 5, с их бесконечными стычками, контрибуциями, расстреливаниями и т. д., и т. д.; - вся эта неурядица, как ни страшна и ни нелепа она, однако же далеко не так произвольна, бестолкова и гибельна, как порядок, или, вернее сказать, беспорядок дел, угнетавший Испанию до той эпохи. Как ни велики бедствия, которыми мучилась эта страна в последние десятилетия,- прежде было в ней нечто еще худшее, еще более тяжкое, которое исключительно виновно и во всех страданиях настоящего.
«Испания полна уныния; народ ее словно находится в том тяжком забытьи, какое испытывает человек, долго находясь на морозе. Не в настоящем должно искать причин этим тяжким политическим страданиям; они в прошедшем, они далеко позади. На междоусобную войну в Испании смотрели, как на событие необыкновенное и неожиданное. Но разве эта война не есть результат зол предшествовавших? Это та же самая болезнь, только вышедшая наружу. И прежде наваррского восстания в Испании была междоусобная война, предпринятая инквизициею против всякой живой, благотворной мысли, против всякого развития человеческих способностей. Настоящее положение Испании есть только преобразование этой внутренней, душной борьбы в борьбу с оружием в руках, уготованную тремя веками невежественной, фанатической, безнравственной администрации.
Ни новое политическое устройство Испании, ни даже прежнее причиною несчастий ее. Правда, инквизиция, монахи были для нее страшным злом; но ведь феодальное устройство Испании было общее с Европою; отчего же оно только на Испании оставило такие гибельные следы. Не оттого ли, что в Европе при дурном устройстве было всегда правительство, которое хотя иногда было так же дурно, но всегда более или менее вращалось в кругу идей современной себе цивилизации. В Испании ни в какое время, ни в какой форме не было правительства: был только один произвол со всеми своими заблуждениями и личными страстями; иикогда администрация не имела других законов, кроме собственного каприза и своих личных интересов. Так было прежде, то же и теперь. Три века правительственного безумства не прошли даром: тяжко легли они на благородной стране. Мудрено ли, что народ ее теперь равнодушно смотрит на все эти конституции, говоря про себя свое любимое que ішрогіа (что за нужда). Он знает, что над этими конституциями есть иная высшая власть - анархия».
При таком положении дел не могла сохраниться в нации привычка трудиться. Кому охота работать, когда плоды трудов истребляются или похищаются?
«Но, могут сказать, если история Испании объясняет развитие привычки к бездействию, к лежанью на боку, то все-таки это объяснение нимало не оправдывает испанцев: разве не сами они довели себя до такого положения, в котором невозможно было им работать?» - И на это опять надобно сказать: все зависит от обстоятельств,- они дают направление жизни целого народа, как н жизни отдельного человека; они столь же часто губят нас посредством наших так называемых добрых качеств, как и посредством наших недостатков,- и, наоборот, столь же часто обращают нам в пользу наши недостатки, как и наши добрые качества. Не судите о нравственных или умственных качествах человека по его счастью или несчастью в жизни,-
Скольких добрых жизнь поблекла, Скольких низких рок щадит! Нет великого ІІатрокла,- "Жив презрительный Терсит...
И уцелел Терсит именно потому, что был подл и труслив,- умер Патрокл именно потому, что был благороден и силен душою. Несправедливо вдаваться в крайность и, для противоречия бездушному правилу судить о достоинстве человека или народа по его участи, говорить, что все прекрасное обречено судьбою на погибель,- нет, прогресс и развитие не пустые слова. Но власть обстоятельств всесильна, и надобно ближе вникать в обстоятельства дела, чтобы судить о том, действительно ли слаб или силен, хорош или дурен страдающий или торжествующий.
Обстоятельства неблагоприятно расположились для Испании; они расположились так, что именно лучшие качества испанского народа обратились во вред ему. Укажем хотя один пример - инквизицию, которая изо всех зол, губивших Испанию, была пагубнейшим. Конечно, мы не чувствуем ни малейшего влечения защищать инквизицию или хвалить испанский народ за то, что он имел у себя это учреждение. Но, однако, в чем же состоит сущность дела? В том, что испанцы, по своему глубокому и сильному характеру, серьезно, искренно приняли тот идеал, который был идеалом всех западных европейских народов в средние века. Другие народы, можно сказать, только шутили, забавлялись между дел этим идеалом, не имея ни столько пламенной твердости в характере, ни столько преданности убеждению, чтобы серьезно устремить свои силы на осуществление этого идеала. Испанцы принялись за это дело серьезно,-«и погубили себя»,-скажете вы. Так, погубили себя, но осудите ли вы человека, который по ошибке отравил себя и своих друзей ядом, считая этот яд жизненным бальзамом, осудите ли вы его, если он пожертвовал своими сокровищами для приобретения этого мнимого жизненного бальзама?
Ослепление у испанцев было общее со всеми западными народами средних веков, - за это нельзя их винить. Они одни действовали совершенно искренно и серьезно,- в этом они были выше других. Они погубили себя, но погубили именно потому, что имели сильный и возвышенный характер.
Мы сказали об инквизиции, страшнейшем из ложных принципов, погубивших Испанию. Всмотритесь в историю средних веков, XVI и XVII столетий,- вы увидите, что точно так же и все остальные ложные принципы, содействовавшие гибели Испании, были общи испанцам с другими тогдашними народами Западной Европы. Заблуждение в убеждениях было одинаково повсюду,- но убеждение было у испанцев искреннее, серьезнее, нежели у какого- нибудь другого народа,- этим они погубили себя,- но за искренность и серьезность упрекать нельзя, и те же самые качества характера, которые обращаются во вред, когда служат к достижению ложных целей, приносят благо, когда посвящаются на осуществление истинных целей.
Испания доведена была обстоятельствами до состояния самого жалкого; она очень долго не могла избавиться и теперь только начинает избавляться от бедствий, угнетавших ее,- и процесс внутреннего брожения, которым совершается возрождение этого народа, так тяжел и продолжителен, задерживается такими частыми и прискорбными рецидивами, что естественно родится мысль: приведет ли все это брожение к чему-нибудь лучшему, или Испании не суждено оправиться от своего долговременного унижения и страдания? Г. Боткин не колеблется утверждать, что Испанию ожидает лучшая будущность,- и, несмотря на всю видимую беспорядочность в истории последних ее десятилетий, нельзя, действительно, сомневаться в том, что многое стало ныне в этой стране лучше, нежели было за тридцать лет, что успехи развития, еще слишком незначительные сравнительно с тем, что надлежит совершить, уже, однако, не могут назваться ничтожными, и что каково бы ни было настоящее состояние Испании, но эпоха возрождения уже началась для нее. В этом убеждает постепенное распространение просвещения, заметное усиление умственной деятельности в нации, столь долго дремавшей,- всего более убеждают в возможности возрождения качества, сохраненные испанским народом. Он даровит, благороден и тверд духом,- и если он выдержал трехвековое бедствие, не утратив душевных сил, то, конечно, способен возродиться, когда влияние неблагоприятных обстоятельств на его судьбу ослабеет.
Испания была очень надолго задержана в своем развитии,- во многих отношениях даже подалась назад под гнетом обстоятельств, сравнительно с прежней степенью своего развития. Но эти тяжелые обстоятельства не могли, однако, подавить врожденных дарований испанского народа:
«Во многих отношениях Испания столько же принадлежит к средним векам, сколько к нашему времени; многое в ней странно, но не бессмысленно. Она много назади, но далеко не поражена тою нравственною окаменелостью, которая заставляет отчаиваться за будущность народа. Скорее должно дивиться, соображая исключительные, роковые обстоятельства, которые так долго сдерживали политическую жизнь Испании, как она не еще более назади, как еще успела она сохранить в себе эти энергические семена жизни.
Всего более заставляет верить в будущность Испании редкий ум ее народа. Когда имеешь дело с людьми из простого народа, совершенно лишенными всякого образования, невольно изумляешься их здравому смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются. В этом отношении они, например, далеко выше французских крестьян. В них нет их грубости, их умственной тяжеловатости. Умственная сфера испанца не велика, но то, что он понимает, он понимает верно; и если воспитание и здравые идеи разовьют их умственные способности, испанцы внесут тогда и в высшие сферы жизни это прямодушие, эту отчетливость, которые, кажется, врождены им, и которые теперь прилагаются у них только к самым мелким интересам. Среди этих бесчисленных смут, раздирающих Испанию, чувствуешь какую-то необходимость беспрестанно оглядываться назад, хотя бы для того, чтобы сколько-нибудь облегчить настоящее от ошибок и несчастий, завещанных ему прошедшим, для того, чтоб сохранить веру в народ, который, несмотря на три несчастных века, умел сберечь в себе свои природные качества, столь прекрасные и драгоценные».
Не только живость, здравость ума сохранилась в испанце: вековое унижение и угнетение не могло подавить в нем и удивительного его благородства, доходящего до самой утонченной деликатности. Единственный верный признак невозвратного падения народа - то, когда народ мелок и низок душою, продажен и подл; единственный прочный залог народной будущности - сохранение в народе благородных чувств. В этом отношении испанцы могут гордиться своими нравами:
«Испанец прежде всего caballero Вскоре но приезде моем в Мадрид я отыскивал одну улицу, где мне надобно было сделать визит. Улица была далеко, н я расспрашивал о ней у прохожих. Между прочим, отнесся я к одному бедно одетому человеку. «Бели хотите, я провожу вас туда»,- отвечал он. Мы пошли. Дорогой вздумал я сделать еще несколько визитов и, намереваясь заплатить этому человеку за труд его, просил дожидаться меня на улице. Визиты мои продолжались часа три: вожатый мой говорит мне, наконец, что он не может долее оставаться со мною. Я подаю ему дуро (5 руб. ассигнациями]), благодаря его за одолжение. «No, setior, no muchisimas gracias». (Нет, сударь, нет, покорнейше благодарю.) - «Но почему же вы не хотите получить за ваши труды, я отнял у вас время...» - «No, senor, gracias, soy pobre, pero soy caballero». (Нет, сударь, благодарю - я беден, но я кавалер),- и, раскланявшись, кастильянец ушел от меня, оставив меня в замешательстве и с деньгами в руке. Никогда не случалось мне, давая за труды прислуге, встретить недовольную мину. Если слуга испанский очень доволен, это выражается только тем, что он прибавит к своему обычному «gracias» (благодарю), «gracias, caballero» (благодарю, кавалер). Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно; недаром существует у него пословица: король может делать дворянами, один бог делает кавалерами».
Разделение народа на враждебные касты бывает одним из сильнейших препятствий улучшению его будущности,- в Испании нет этого пагубного разделения, нет непримиримой вражды между сословиями, из которых каждое было бы готово пожертвовать самыми драгоценными историческими приобретениями, лишь бы только нанести вред другому сословию,- в Испании вся нация чувствует себя одним целым. Эта особенность так необычайна среди пародов Западной Европы, что заслуживает величайшего внимания, и уже одна, сама по себе, может считаться ручательством за счастливую будущность страны.
«При наружности, почти совершенно сходной со всеми неограниченными монархиями, Испания на самом деле имела историческое развитие, совершенно различное от остальной Европы; кроме того, элементы, из которых сложилось испанское общество, и по началу своему и по направлениям, совершенно различны от тех, которые лежат в основе прочих европейских государств. Посмотрите, например, на положение и значение дворипстиа испанского. Но Франции - стране равенства, народ враждебно смотрит на дворянство н аристократию; в Испании, где чувство равенства гораздо сильнее, аристократия не только но возбуждает против себя ни ненависти, пи зависти, но пользуется в народе уважением. Мне кажется это обстоятельство довольно любопытным, и я, имея теперь под рукою некоторые материалы, хочу воспользоваться ими, чтоб сказать несколько слов о дворянстве в Испании и об отношонии его к народу. Мне кажется, что, уяснив себе эти отношения, мы будем лучше понимать современные события Испании и еще более извиним народ ее за его равнодушие к ним.
После падения Римской империи (простите, что я начинаю так издалека) вся Европа была завоевана и занята варварами, племя победившее и племя побежденное поселились на одной и той же земле, одни как властители, другие как вассалы. Ведь история Франции и Англии есть ничто другое, как постепенное освобождение племени завоеванного. Казалось бы, что французская революция, провозгласив политическое, гражданское и религиозное равенство, должна была заглушить самое воспоминание о прежней взаимной борьбе и ненависти; но такова глубина этой ненависти, что она пережила даже и самую причину ссоры.
В Испании не найдете вы ничего подобного; здесь дворянин не горд и не спесив, простолюдин к нему не завистлив; между ними одно только различие - богатство, и нет никакого другого. Здесь между сословиями царствует совершенное равенство тона и самая деликатная короткость обращения, и не только гражданин, но мужик, чернорабочий, водонос обращаются с дворянином совершенно на равной ноге. Если им открыт вход в дом испанского гранда, они пойдут туда, придут, сядут и говорят с своим благородным хозяином в тоне совершеннейшего равенства. Причина таких удивительных для нас отношений должна заключаться в самой истории Испании, и именно в том, что в Испании никогда не было плебейства, простонародья, что испанский мужик не принадлежит к племени завоеванному, а дворяне к племени завоевательному. Новая Испания началась с изгнания мавров; только с этого времени здесь ведут свое начало права ifa владение землею. Но самое это изгнание показывает, что в Испании остались одни только победители. Известно, как после завоевания маврами всей Испании горсть смелых и непреклонных людей, укрепившихся в горах Астурии, сделалась впоследствии спасителем и знаменосцем национальной независимости. По мере того, как силы их увеличивались, завоевали они постепенно провинции Леон, Кастилью, Арагон, оттесняя мавров далее и далее, и наконец взятие Гренады уничтожило политическое значение мавров в Испании. Выть низкого происхождения, по понятиям испанца, значило иметь в своих жилах кровь арабскую, кровь племени вдвойне презираемого, как неверное и как но13 Н. Г. Чернышевский, т. 1 385
бежденное. По той же самой причине дворянство испанца состоит прежде всего в том, чтоб быть старинным христианином; и это одно достоинство старинного христианина,- если его считает за своим родом самый последний носильщик, он гордится им, и в глазах его оно равняет его с самыми важными лицами в государстве. Между здешними aquadores (во- доносцами), которые все почти из Астурии, много дворян; они знают это и величаются своим происхождением. Jo soy mejor que mi amo (я больше дворянин, я благороднее моего хозяина), говорит aquador, приняв гордый вид и держа свое ведро воды на плече. И действительно, самые старые и благородные фамилии стараются отыскивать начало своих родов преимущественно в Астурии. А так как в прочих провинциях все равно участвовали в изгнании арабов, то всякий гордится на свой манер, и все обращаются между собой на равной ноге, потому что, повторяю, самое великое и главное событие испанской истории есть борьба против исламизма; от нее ведут начало свое и собственность и дворянство.
Причина того всеобщего уважения, которым всегда пользовалось в народе дворянство, заключалась в том, что предки его были первоначальными освободителями Испании от ига арабов. Тогда как народ занимался земледелием, дворянство билось с неверными и расширяло границы испанского христианства. Отсюда происходит почтение, оказываемое ему народом, но опять в этом почтении не было ничего подданнического, именно потому что между дворянином и самым последним мужиком здесь не лежала бездна завоевания, как в остальной Европе, а только одна различная степень деятельности и храбрости. Теперь несколько слов о владениях дворянства.
Короли Кастильи и Арагона обыкновенно награждали за услуги, оказанные им в войнах против арабов, частью завоеванных земель. Иногда эти маленькие владетели, имея деньги, прикупали себе новые участки; случалось также, что иной cabaliero строил себе креиость вблизи арабской границы и держался в ней с своим гарнизоном; крестьяне приходили селиться под защитою крепости, и когда испанская граница распространялась дальше, владетель крепости естественно становился и владетелем земли, которую он долго покровительствовал и защищал от нападений арабов. Таким образом владения дворянства в источнике своем, как видите, ничего не имели ненавистного для народа. Майорат- ство 8, учреждение чисто феодальное, беспрестанно сосредоточивало и без того значительные владения в одних лицах, которые чрез это становились по могуществу своему почти независимыми от короля, - так что теперь, при всем своем жалком состоянии, при всей разореиности своей, дворни- ство испанское, после уничтожения монастырей и конфискации их имений, составляет в Испании класс самых больших владетелей и имеет в своих руках самые лучшие земли.
По по этой же самой причине, по феодальной значительности своей, дворянство испанское никогда не было в милости у королей. Во многих случаях, когда тяжкие войны истощали денежные средства королей, они принимались поверять дарственные грамоты своих предшественников, но которым дворянство владело землями, и если эти грамоты оказывались неточными (а в этом случае придирались ко всему), их объявляли недействительными, и отобранные имения поступали снова в королевскую казну. Но совершенный упадок испанского дворянства начался со вступления на испанский престол Бурбонов. Когда, но интригам Людовика XIV, слабоумный Карл II, распорядившись Испаниею, как своею част- иою собственностью, завещал ее внуку Людовика XIV, дворянство испанское было против этого завещания и держало сторону австрийского дома. Этого Бурбоны, разумеется, не забывали, и с тех пор прекратилось политическое значение дворянства в Испании. Бурбоны, кроме уномя-
нутых поверок прежних дарственных грамот, постоянно держали дворянство вдали от правительства. С тех пор не встречается уже в истории Испании ни одного из старых дворянских имен, знаменитых при прежней испанской монархии; вместо их являются на сцену иностранцы, дворянство второстепенное или вовсе новое.
Удаленная от правительства, аристократия испанская, наконец, постепенно утратила и свои предания и способности. Дети ее, владея, подобно английской аристократии, огромными состояниями, но не имея перед собою никакого поприща для политической деятельности, совершенно пренебрегали всяким основательным образованием и наконец даже в Испании отличались своим невежеством; забавы, беспутство и расточительность были их единственными занятиями. Следствием этого сделалось то, что дворянство испанское стало еще беднее. Большая часть знатных фамилий обременена долгами: и как большие землевладельцы, они чрезвычайно пострадали в войну за независимость, с 1808 но 1814 год, а уничтожение майоратства теперь нанесло последний удар и их значению больших земельных владетелей.
Я говорил выше о равенстве тона и обращения, которое установила здесь между дворянством и народом одинаковость племени; но если от отношений чисто нравственных перейдем к интересам положительным, материальным, к отношениям землевладельца и наемщика земли, то еще становится понятнее, как это национальное единство, выработанное в Испании своеобразным историческим развитием, имело влияние не на одну только всеобщую вежливость обращения, но и на собственность,- этот общий источник всех политических ссор, - так что и собственность здесь носит на себе глубокие следы этого урожденного равенства.
13*
387
Дворянство исстари чрезвычайно кротко обращалось с наемщиками своих земель; есть крестьянские семейства, которые в продолжение 200 и 300 лет имеют в найме ту же землю, так что давность этих отношений придала им особенный семейный характер. Кроме того, большие земельные собственности владельца, продолжительность и прочность, которую майоратство вводило во взаимные интересы, часто позволяли собственнику отсрочивать плату за наем, что почти невозможно в тех странах, где дробность и беспрестанное движение собственности заставляет всякого скорое самому искать кредита, нежели давать его. Самые законы особенно покровительствовали наемщика. Хотя здесь в каждой провинции свои обычаи и законы, и можно их изучать только на местах, но есть из них некоторые, общие всем средним и южным провинциям и которые особенно замечательны. Например, если наемщик дурно платит, то владелец не может принуждать его к исправнейшему платежу; если он вовсе не платит, владелец может отказать ему, но должен предуведомить его об этом за год вперед, в иных провинциях за два года. Если другой наемщик предлагает владельцу дороже, прежний, давши такую же цену, имеет право остаться, даже против воли владельца. В Андалузии и Эстремадуре наемщик может, несмотря на заключенное условие, требовать после жатвы перецепки земли; а так как оценщики всегда берутся из класса земледельцев, то наемщик никогда не останется в накладе от перецепки. Вы видите, что если здесь кто и терпит, то уже вовсе не крестьянин. Кроме этого здесь еще существует следующего рода наем: землевладелец уступает свою землю на условии ежегодной и раз навсегда определенной платы; и с сей мннуты наемщик, платя исправно условную сумму, пользуется землею, как своею полною и неограниченною собственностью; он может на ней строить, садить,- удесятерять ценность земли: владелец никогда не смеет требовать с него ничего больше условной платы. Упадок ценности в деньгах нисколько не изменяет силу раз навсегда сделанного условия, так что есть много семейств, владеющих
значительным количеством земли за самую, по теперешним ценам, ничтожную плату.
После всего этого можно ли опасаться здесь таких народных движений, какие несколько раз потрясали Германию, Англию, Францию? Можно ли бояться извержений народного волкана в стране, где у самого беднейшего мужика есть всегда вдоволь хлеба, вина и солнца и где даже у нищего есть на зиму и шерстяные штаны и шерстяной плащ! Вот почему здесь народ так равнодушно смотрит на политические события. Как нация он без всякого сомнения бесконечно выиграет от возрождения Испании, но собственно как народ, в своих отношениях к дворянству, к среднему сословию - ясно, что не он именно здесь особенно нуждается в освобождении. Если здесь что действительно страдает, так это интересы среднего сословия - просвещение, торговля, промышленность...»
Наслышавшись о серенадах, шелковых лестницах и, особенно наслушавшись «Дои Жуана», мы часто воображаем себе Испанию страною распущенных нравов, цинизма, разврата,- на самом деле это вовсе не так. Свобода нравов действительно велика в Испании, страсти действительно пылки, но там не знают холодного, продажного разврата, который один точит нравственные силы народа. Теперь мы настолько знаем Восток, что не верим в нравственность, охраняемую гаремами и евнухами. Сравнивая различные цивилизованные нации, мы видим, что именно те страны, где наиболее допускается свобода нравов, отличаются наибольшею чистотою нравственности,- в пример довольно указать на Северо-Американские Штаты. После этого мы легко поверим, что Испания есть одна из тех стран, где отношения между мужчинами и женщинами наиболее чисты. Любовь и поэзия неразлучны в Испании, а где поэзия, там не может быть разврата; и Севилья, знаменитая своими серенадами, в нравственном отношении стоит, без всякого сомнения, выше, нежели большие города чопорных и лицемерных северных стран. Описание се- вильских нравов - одно из лучших мест в книге г. Боткина:
«По вечерам с 8 и 9 часов нач нается гулянье на alameda del Duque. На юге нет наших долгих сумерек: ночь наступает тотчас по захождении солнца. Alameda del Duque - небольшая площадь, обсаженная высокими, густыми акациями и освещенная множеством фонарей; по обеим сторонам сделаны скамьи, середи огромный фонтан широким, рассыпающимся букетом бросающий воду и постоянно освежающий удушливо- теплый воздух. Около площади расположены кофейные, лавочки с холодною водою, лимонадом. Alameda del Duque - царство черных севильянок. Не ужасно ли, что эта поэтическая красота не показывается при дневном свете, а бывает видима только по ночам. К счастью для меня, теперь стоят яркие, лунные ночи. Что за живые разговоры, что за откровенный смех раздаются на этом гулянье! О свободе, царствующей здесь, в Европе не имеют понятия: здесь словно каждый у себя дома. Эта непринужденность, этот громкий смех, эта живость разговоров, как все это не походпт на европейские гулянья, а тем менее на наши, на которые мужчины и женщины выходят с такими натянутыми, заученными лицами и манерами. Но что особенно замечательно - эта непринужденность, эта свобода проникнуты здесь самою изящною вежливостью; это не заученная, не условная вежливость, принадлежащая в Европе одному только хорошему воспитанию, а, так сказать, врожденная; вежливость и деликатность чувства, а не одних внешних форм, как у нас, и которая здесь равно принадлежит и гранду и простолюдину. Испанец вежлив не из приличия, не с одними только порядочно одетыми людьми,- в этом отношении здесь одежда не значит ничего, - он равно вежлив со всеми, и денди здесь не стыдится поклониться одетому в плащ с заплатами, или сказать, что он знаком вон с тем лавочником. У женщин, в живости разговора, иногда мантилья спадет с головы; эти мурильовские головки с нардом или жасмином в великолепных волосах, освещенные лупою, производят впечатление обаятельное; ночной запах цветов, особенно нарда, страшно раздражает нервы: надобно быть здесь, среди этой жаркой ночи, освежаемой фонтаном, ходить между этими толпами золотисто- бледных женщин, одинаково одетых в черное, одинаково покрытых черными кружевными мантильями, видеть эту яркую живость физиономий, этот африканский блеск глаз, сверкающих из-за веера, наконец, дышать воздухом, напоенным нардом и жасмином из этих волос,- словом, надобно испытать одну такую ночь, чтоб понять все очарование Севильи.
На alameda не слышно слов senor и sefiora, а только dona Dolores, don Fernando, dona Angeles, don Luis; здесь еще более, чем в средней Испании, следуют обычаю звать друг друга но именам. Подумаешь, что находишься на каком-нибудь семейном празднике. А как вам покажется следующий обычаи: на alameda можно заговорить с своим соседом или с соседкой на скамье... не смейтесь над моими словами, не судите о Севилье по обычаям европейским и не спешите из этого заключать о легкости севильянок. Здесь это не удивляет, не оскорбляет женщины: здесь это в нравах. Or этого нет города в Европе, в котором было бы больше случаев к знакомству и сближению. Но, но странному противоречию, для девушек здесь больше свободы, нежели дли женщин. Н Севилье вообще женщин втрое более, нежели мужчин; следствием этого то, что здешние девушки томятся не одной только любовью, но и желанием выйти замуж, її в андалузских нравах каждой девушке иметь своего novio - жениха. Если вы понравились девушке, она тотчас даст вам это заметить; заговорите с ней, когда она вечером прогуливается, и, хоть бы с матерью, она ответит вам и скоро позволит нритти ночью к ее окну. Прогулка по Севилье ночью особенно интересна. Беспрестанно видишь у окон мужчин в плащах и андалузских шляпах: на ночные беседы у окон и балконов непременно ходят в простонародном костюме. Мужчина, ири вашем приближении, завертывается в плащ так, что закрывает им свое лицо; разговор ирервался - и, проходя мимо окна, вы увидите в стороне его два сверкающих глаза... глаза андалузки и в темноте сверкают! Но остерегайтесь по нескольку раз проходить перед окном, у которого идет таинственная беседа: вас могут принять за подсматривающего соперника, а здесь никто не ходит на ночное свидание, не запасаясь стилетом или, по крайней мере, ножом. Даже ночные патрули уважают кавалеров ночи, позволяя себе только невинные остроты на их счет. Мать знает, что дочь ее разговаривает по ночам у окна с молодым человеком; дочь говорит, что это ее novio - жених. Большая часть браков составляется посредством этих ночных разговоров; случается, что иные разговаривают так по целому году и после женятся, видаясь только или у окна, или в церкви. Если novio отстал, на девушку это не бросает ни малейшей тени, да и на его место тотчас же является другой. Сколько иностранцев, приехав сюда на неделю, заживаются здесь по году и более, между тем как в Севилье, кроме «бега быков» и плохого театра, нет никаких развлечений. Но эти нравы имеют столько романической прелести, в этих чудных женщинах столько потребности любить (здесь это их единственное занятие!), н я понимаю, как в двадцать лет, при горячей крови, пылком, увлекающемся сердце, и если, при этом, стремление к наслаждениям преобладает над всеми другими стремлениями,- я понимаю, как можно в Севилье прожить целые годы в самом блаженном сне, который, право, стоит многих других, деловых снов. Но я должен, однако ж, сказать, что здешние молодые люди жалуются на севильскнх девушек, будто они имеют постоянною целью выйти замуж и в своих сближениях с молодыми людьми, в своих ночных свиданиях у окон, следуют советам матерей, с которым будто бы заключен у них оборонительный и наступательный союз. Впрочем, мне случилось удостовериться и в противном. Я знаком здесь с одним молодым американцем из Нового Орлеана: он приехал взглянуть на Севилью,- и живет здесь уже восьмой месяц. Он любит и любим. Мать запретила даже его любезной сидеть по ночам у окна, оконная рама была заделана железом, но дочь все-таки нашла средство видеться с ним... Правда, что здесь нет ничего легче, как познакомиться с девушкой и получить от нее свидание у окна, но между этого рода сближением и ее любовью - далеко. Первое есть, может быть, не более, как страшное средство раздражить чувственность и привязанность, чтоб заставить жениться: другое... да другое не требует объяснений...
Андалузка в высшей степени кокетлива; она тотчас чувствует па себе глаз мужчины и никогда не переносит его равнодушно. Надобно привыкнуть к тону севильских женщин: в их манере есть что-то резкое; но это резкое не от грубости, а от необыкновенной живости, стремительности чувств; может быть, отсюда происходит и фамильярность здешних женских обществ, фамильярность, исполненная самого тонкого, гак сказать, внутреннего приличия, этой изящной вежливости, так не похожей на приторную церемонность северных обществ (не исключая и парижского), которую, бог знает почему, считают за хороший тон. При всеобщей одинакости черного платья и мантильи севильянкам невозможно щеголять модными костюмами: их главное щегольство в маленьких ножках, и надобно сказать, что их руки и ноги - формы совершеннейшей. Если о породе женщин можно судить по рукам, ногам и носу, то, без всякого сомнения, порода андалузок самая совершеннейшая в Европе. Я думаю, щегольство маленькой ножкой заставляет севильянок даже выносить страдания: они носят такие башмаки, в которых нет возможности поместиться никакой ноге в мире: кроме того, их башмаки едва охватывают пальцы ноги. Глаза севильянок состоят из мрака * блеска, mucho negro у mucha luz,- много тьмы и много света,- как выражается одна севильская песня, и действительно, за черным блеском их не видать белка, и столько в них дерзкой выразительности, что, поверьте, нужно обжиться здесь для того, чтоб не чувствовать от них особенного волнения. У испанцев есть особенный глагол - ojear, бросать взгляд, и каждая севильянка владеет этим в совершенстве. Она сначала потупляет глаза и, поровнявшись с вами, вдруг вскидывает их: внезапный блеск и пристальность взгляда действуют, как электричество. А это еще взгляд равнодушный!
Здесь женщины ничего не читают; и это отсутствие всякой начитанности придает андалузкам особенную оригинальность: их не коснулись книжность, вычитанные чувства, идеальные фантазии, претензии на образованность. Ведь остроумное невежество лучше книжного ума. Невежество севильянки при ее живом воображении, при огненной движи- мости се чувств, при этой врожденной, свойственной одним южным племенам тонкости ума, исполнено прелести увлекательной, перед которою так называемая образованность европейских дам кажется приторною книжностью. Нигде не встречал я такого странного слияния детской наивности с дерзостью и удалью: это и ребенок и вакханка вместе. В наружности севильянки нет и тени того спокойствия, которое более или менее отличает женщин всех наций в Европе: это в высшей степени нервическая натура, но только не в болезненном, северном смысле этого слова. Я думаю, никакая женщина в Европе не может возбудить к себе такого энтузиазма, как андалузка. В глазах их нет выражения кротости, как в глазах северных женщин: в их глазах блестит смелый дух, решительность, сила характера. Того, что мы называем женственностью, сердечностью,- не ищите у них. В кокетстве андалузки проступает что-то тигровое, в их улыбке есть что-то дикое: чувствуешь, что самое прекрасное лицо тотчас может принять выражение свирепое... и что ж удивительного! эти обаятельные головки, эти женщины с невообразимою негою движений, эти глаза, о выразительности которых невозможно иметь понятия, не быв в Андалузии,- они нынче утром наслаждались убийством, равнодушно смотрели на лошадей, которых внутренности влачились но земле, он її знают до тонкости все подробности смертных судорог, они смотрели на смерть с увлечением, со страстью... а вечером вы слышите здесь, как слышал я вчера, поздно возвращаясь к себе домой, меланхолические аккорды гитары, и те же уста задумчиво ноют:
Mas vale trocar
Placer рог dolores
Que eslar sin amores... 10
«Лучше променять радость на горе, чем жить без любви.
В счастьи и умереть сладко; жить в забвении - все равно что но жить; лучше переносить страданье и печаль, чем жить без любви.
Жизнь без любви - пропащая жизнь, а уменье употребить жизнь важнее самой жизни; лучше томиться, перенося горести, чем жить без любви » ».
Испанский народ сохранил в себе плодотворные залоги быстрых успехов на пути развития: живость ума, благородство характера, свежесть и энергию чувства. Между народами Западной Европы трудно указать такой, который стоял бы выше его по всем этим качествам. Напротив, над большею частью цивилизованных наций испанский народ имеет бесспорное преимущество в одном чрезвычайно важном отношении: испанские сословия не разделены между собою ни закоренелою ненавистью, ни существенною противоположностью интересов; они не составляют каст, враждебных одна другой, как то видим во многих других западных европейских землях; напротив, в Испании все сословия могут дружно стремиться к одной цели. Одно только существенное препятствие мешает теперь блистательному возрождению Испании,- но это препятствие так гибельно, что до сих пор совершенно останавливало всякий прогресс,- выше мы называли это препятствие леностью, привычкою к бездействию и говорили об исторических причинах, породивших эту пагубную привычку к бездействию. Теперь надобно нам ближе определить ее характер и указать обстоятельства, которыми до сих пор поддерживается она.
Бездействие может происходить от бессилия или от беззаботности. Не знаем, есть ли на самом деле племена бессильные, как часто говорят. Но ни в каком случае нельзя назвать бессильным испанского племени. Его бездействие - следствие беззаботности. Вот как, например, смотрит испанец на государственные дела своего отечества:
«Политическая Испания есть какое-то царство призраков. Здесь никак не должно принимать вещи по их именам, но всегда искать сущности иод кажимостью, лицо под маскою. Сколько уже лет говорят в Европе об испанской конституции, о партиях, о журналистике, разных политических доктринах, о воле народа и т. п.; все это слова, которые в Европе имеют известный, определенный смысл,- приложенные же к Иснаинн имеют свое особое значение. Прежде всего надо убедиться в том, что массы, народ здесь совершенно равнодушны к политическим вопросам, которых они, к тому же, нисколько не понимают. Кастильцу-простолю- дииу нужно работать, может быть, только две недели в году, чтоб вспахать свое поле и собрать хлеб, да еще большею частию приходят жать его валенсиянцы; остальное время он спит, курит, ест и нисколько не заботится о всем том, что лично до него не касается.
«Испания, удушенная тремя веками самой ужасной администрации, подпавшая двум чужестранным династиям, из которых первая начала жестокостию, насилием и кончила решительным идиотизмом,- другая почти беспрерывно занималась одними дворцовыми интригами,- бедная Испания силится разбить теперь эту кору невежества, иод которою столь долго томилась она. Глубоко ошибаются те, которые судят об Испании но французским идеям, по французскому общественному движению. Кроме множества радикальных различий, не должно забывать, что Франция была приготовлена пятьюдесятью годами философской литературы. В Испании, после писателей ее «золотого века», в продолжение двух веков не было другой литературы, кроме проповедей духовенства, которое, конечно, всеми силами старалось о поддержании старого общественного устройства, в котором само господствовало. Посмотрите теперь на испанские журналы всех партий! Меня больше всего поражает в них решительное отсутствие всякой рассудительной теории, даже всякой практической мысли. Идей нет,- есть одни лица и имена; ни один вопрос государственного устройства не подвергается анализу. Перевороты в Испании не могут выйти из масс, которые даже не имеют о них понятия. Здесь самый бедный, последний мужик всегда вдоволь имеет хлеба, вина и солнца, здесь у самого нищего есть на зиму и шерстяные панталоны и теплый шерстяной плащ, тогда как французский мужик, например, и зиму и лето прикрывается одною тощею, холстипною блузой. Кроме того, этот народ одарен удивительным чувством повиновения: лучший пример - все царствование Фердинанда VII. Испанцу словно недоступна никакая общая идея, хотя отвлеченное попятие об общем деле».
Видите ли, ему нет охоты позаботиться об этом, он махнул рукою на все, воображая, что эти дела - не его дела: «пусть себе идут, как хотят,- лично мне ни тепло, ии холодно не будет от общего порядка дел».
Надобно ли говорить, что такое равнодушие возможно только при совершенном невежестве? Невежество - вот коренная язва Испании.
Привычка довольствоваться в жизни слишком малым, обходиться без всяких удобств - вот другой источник этой беззаботности. До последнего времени испанец не чувствовал надобности ни в хорошей меблировке дома, ни в хороших товарах, ни в удобных путях сообщения; комнаты самых богатых людей были до последнего времени меблированы самым скудным образом, платье шилось из плохих материалов, нища соответствовала меблировке и качеству материй, и когда испанец пускался в путь, он не чувствовал беспокойства, медленности и дороговизны езды верхом на мулах, но убийственно дурным дорогам - «что-нибудь» и «как-нибудь» совершенно удовлетворяло его,- лучшего ничего и не воображал он себе.
Наш век неблагоприятен таким невзыскательным понятиям о житейских удобствах, неблагоприятен и для невежества. Прежде люди могли успокоиваться на том, чтобы жить как-нибудь, лишь бы не умереть голодною и холодною смертью. Теперь в душе каждого неизгладимо напечатлелась мысль о благосостоянии, по крайней мере, в житейском быту. Испанцы уже чувствуют необходимость в железных дорогах, в дешевых и хороших товарах, в развитии торговли, промышленности. Этого чувства уже довольно - оно приведет за собою все остальное; кто начал думать о благосостоянии, тот скоро поймет, что ни одно из условий благосостояния не может существовать без разумного порядка дел, которым бы обеспечивались приобретения каждого отдельного лица, скоро поймет, что возможность благосостояния для отдельного лица обусловливается общим хорошим порядком дел. А чтобы водворить такой порядок дел, нужно знание, и потому стремление к материальному довольству всегда влечет за собою пробуждение жажды знаний, оживление умственной деятельности в нации. Невеждою может оставаться только тот, кто, находясь в жалком положении относительно своего житейского быта, не чувствует неудовлетворительности этого жалкого положения. Потребность улучшить свой быт необходимо влечет за собою потребность умственного труда.
Испания вошла уже в такую тесную связь с остальною Европою, что не может оградить себя от сочувствия стремлениям века. Единственные важные недостатки, которыми страдает испанский народ, - беззаботность невежества и равнодушие к улучшению материального быта,- эти недостатки прямо противоположны потребностям и стремлениям нашего века, и потому нет нужды в особенной отважности, чтобы решиться сказать: недостатки эти должны исчезнуть, и исчезнуть быстро.
Мы сделали много выписок из книги г. Боткина, но читатели, помнящие его «Письма об Испании», видят, что мы касались почти исключительно только одной стороны разнообразного содержания, представляемого его рассказами. Не одна природа и общественная жизнь Испании занимают его внимание - частный быт, памятники искусства, исторические воспоминания не меньше этих предметов интересовали его и являются не менее интересными читателю в его описаниях.
Мы не можем не обратить особенного внимания читателей на «Письма об Испании», ибо, повторяем, подобного рода путешествия, в которых серьезность взгляда соединяется вместе с глубоким поэтическим чувством, являются не часто.
[«РУССКАЯ БЕСЕДА» И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО]
Холодно, отчасти насмешливо, отчасти даже как-то неприязненно смотрела до сих пор на «Русскую беседу»1 почти вся наша публика. Почти все наши журналы, когда говорили о ней, говорили с ирониею или с укоризнами. Едва ли не один только «Современник» доказывал, что между славянофилами и огромным большинством образованных людей, отвергающим славянофильские идеи о русском воззрении, существуют, выше этого раздорного пункта, точки сходства во мнениях, согласия в желаниях2. Многим из уважаемых нами людей такой взгляд на славянофилов показался совершенно ошибочным, чуть ли не преступным перед Европою и просвещением. Большинство продолжало смотреть на славянофилов не как на людей, которые, ошибаясь во многом и важном, о важнейших и существеннейших вопросах жизни (потому что есть в жизни нечто важнее отвлеченных понятий) думают правдиво и благородно,- нет, как на людей, которые, ради осуществления своих туманных и ошибочных теорий о народности в науке, готовы пожертвовать и наукою, и благами цивилизованной жизни, и всем на свете.
Наконец-то, после напрасного годичного ожидания, дождались мы от публики более благоприятных отзывов о мнениях, органом которых служит «Русская беседа». Не знаем, решатся ли отказаться сразу от своих предубеждений журналы, до сих пор не видевшие ничего хорошего в «Русской беседе»,- решатся ли они признаться, что славянофилы одушевляются не одною мечтою о небывалом и невозможном специально-русском построении науки на фантастических основаниях, но также,- и еще больше,- стремлениями, свойственными каждому образованному и благородному человеку, каковы бы ни были его теоретические заблуждения. Быть может, журналы, глумившиеся над славянофилами, почтут нужным умолчать о впечат- лении, которое произвела на большинство мыслящих людей первая книга «Русской беседы» за нынешний год. Но у нас нет ни причины, ни желания не сказать с радостью, что впечатление это вообще было очень благоприятно для «Русской беседы» и славянофилов. Публика, наконец, получила в этой книге доказательства, что для славянофильского журнала существуют интересы, более дорогие и живые, нежели мечты, которые не могут встретить в большинстве ни сочувствия, потому что отвлеченны и неприложимы к делу, ни одобрения, потому что не вели бы ни к чему хорошему, если бы были осуществимы.
Это благоприятное впечатление произведено преимущественно двумя превосходными статьями г. Самарина, помещенными в критике. Мы не будем подробно говорить о том, почему и как действуют они на каждого благомыслящего человека самым выгодным образом - мы надеемся, что те из наших читателей, которые еще не знают этих статей, познакомятся с ними из самой «Русской беседы». Одобряемые теперь благоприятным расположением публики к «Русской беседе», мы хотим сказать, с какой точки зрения образ мыслей, называемый славянофильством, заслуживает, если не полного одобрения, то оправдания и даже сочувствия; не усомнимся указать даже те частные вопросы, о которых славянофилы думают, как нам кажется, справедливее, нежели многие из так называемых западников. Читатели видят, что не всех западников мы считаем одинаково безошибочными во мнениях; точно так же мы говорим не о всех без исключения людях, называющих себя славянофилами, что у них есть нечто важнейшее и лучшее, нежели идеи о русском воззрении. В самом деле, обе партии одинаково считают в своих рядах людей, не имеющих почти ничего общего между собою, кроме того или иного взгляда на отношение народности к общей человеческой науке. А этот вопрос, служащий основанием для разделения партий, далеко не имеет, по нашему мнению, той всепоглощающей важности, какую ему приписывают; и между людьми, согласными в его решении, могут быть разноречия но другим, гораздо существеннейшим вопросам. Как из западников, так и славянофилов мы признаем достойными особенного сочувствия только тех, которые справедливо думают об этих важнейших вопросах. Если бы, например, между западниками нашлись люди, восхищающиеся всем, что ныне делается во Франции (а такие есть между западниками), мы не назвали бы их мнения достойными особенного одобрения, как бы громко ни кричали они о своем сочувствии к западной цивилизации,- потому что и во Франции, как повсюду, гораздо более дурного, нежели хорошего; с другой стороны, как бы пи заблуждались в своих понятиях о допетровской Руси люди, в настоящем одобряющие только то, что действительно достойно одобрения, и желающие всех тех улучшений, каких должен желать образованный человек,- мы все-таки почли бы мнения таких людей в сущности добрыми, потому что действительные стремления относительно настоящих дел важнее всяких отвлеченных мечтаний о достоинствах или недостатках отдаленного прошедшего. Только славянофилы последнего рода придают жизнь и смысл своей партии, потому только о них мы и будем говорить, оставляя без внимания людей, которые, по недостатку умственного развития, но отсталости или но увлечению бесплодными мечтами, были бы одинаково ничтожны или вредны, что бы ни говорили об отношениях народности к общечеловечности.
Лучшие люди славянофильской партии - люди с горячею преданностью своим убеждениям; уж этим одним они полезны в нашем обществе, самый общий недостаток в котором не какие-нибудь ошибочные понятия, а отсутствие всяких понятий, не какие-нибудь ложные увлечения, а слабость всяких умственных и нравственных влечений. Прежде, нежели желать того, чтобы все твердо держались образа мыслей, который кажется кому-нибудь из нас справедливейшим, надобно признавать настоятельнейшею потребностью русского общества пробуждение в нем мысли и способности к принятию каких-либо умственных убеждений, каких-либо нравственных влечений, каких- либо общественных интересов. А исполнению этого дела славянофилы стараются содействовать всеми силами и, как люди горячих убеждений, очень полезным образом действуют на пробуждение умов, доступных их влиянию.
Этого права их считаться людьми полезными для общества никто, кажется, не отрицает; но многие думают, что польза, приносимая ими делу пробуждения мысли в русском обществе, далеко превышается вредом, какой они приносят успехам общества, наполняя мысль человека, ими пробуждающегося к жизни, совершенно ложным содержанием, стремясь дать ей направление, совершенно превратное.
Не оправдывая всего того, что говорят даже лучшие представители славянофильства, человек, любящий родину и принимающий выводы науки на Западе, должен, однако же, сказать, что столь общее отрицание всякой справедливости в славянофильстве неосновательно, должен признать, что из элементов, входящих в систему этого образа мыслей, многие положительно одинаковы с идеями, до которых достигла наука или к которым привел лучших людей исторический опыт в Западной Европе.
Начнем хотя с тех враждебных чувств к нынешней Европе, в которых обыкновенно обвиняются славянофилы. Конечно, грубо понимаемое, такое обвинение будет совершенною клеветою на них,- всему действительно великому и хорошему в Западной Европе они сочувствуют не менее самых заклятых западников и, конечно, никому не уступят ни в уважении к таким людям, как Роберт Пиль или Диккенс, Штейн или Гегель,- ни в искренности желания как можно ближе и полнее познакомить русских с благотворными плодами западного просвещения. (Просим не забывать, что мы говорим о лучших представителях славянофильства, а не о тех людях между ними, прегрешения которых против западной цивилизации легко прощаются» как грехи неведения.) Беспристрастный человек должен назвать предубеждением мнение, будто они враждебны европейскому просвещению. Но то правда, и в том признаются они сами, что они не считают слишком завидным нынешнее положение народной жизни в Западной Европе За эту строгость нельзя их винить. Недаром путешественники, отправляющиеся в Западную Европу с ожиданием найти там земной рай, возвращаются разочарованными, если ищут, например, в Париже чего-нибудь, кроме пале- рояльских удовольствий и модных портных. Масса народа и в Западной Европе еще погрязает в невежестве и нищете; потому, она еще не принимает разумного и постоянного участия ни в успехах, делаемых жизнью достаточного класса людей, ни в умственных его интересах. Не опираясь на неизменное сочувствие народной массы, зажиточный и развитой класс населения, поставленный между страхом вулканических сил ее и происками интриганов, пользующихся рутиною и невежеством, предается своекорыстным стремлениям, по невозможности осуществить свой идеал, или бросается в излишества всякого рода, чтобы заглушить свою тоску. Многие из лучших людей в Европе до того опечалены этим элом, что отказываются от всяких надежд на будущее; другие доказывают, что с течением времени зло не уменьшается, а возрастает. Первые, конечно, не правы, но вторые говорят правду. Действительно, язва пролетариата все расширяется, даже физическая органи- зация племен слабеет, так что, вообще говоря, даже средний рост уменьшается. Всего прискорбнее здесь то, что главным источником ниЩеты и бедствий в Западной Европе надобно считать не недостаточность средств к быстрому и коренному улучшению народного быта, а дурное и несправедливое распределение этих средств или недоброжелательство к улучшению народного быта со стороны людей, держащих в руках эти средства и, по своекорыстному расчету, не применяющих их к делу. Мы представим только один случай для примера. Положительный расчет показывает, что если бы во Франции поля возделывались при помощи средств, предлагаемых естественными науками и механикою, и по системе, указываемой политическою экономиею (общинное возделывание земли при помощи улучшенных машин), жатва более нежели удвоилась бы. А между тем во Франции недостает хлеба. Если бы земледелец во Франции пользовался сам плодами своих трудов, он жил бы безбедно,- а он терпит нужду. Еще безотраднее положение фабричных и заводских работников, которым еще легче было бы иметь изобилие во всем, нужном для жизни. Но весь труд во французском обществе производится под гнетом своекорыстных эксплуататоров, которые могут быть прекрасными людьми, но которые, как всякий человек, заботятся о собственных, а не о чужих выгодах, думают об увеличении своих доходов, а не об улучшении участи зависимого от них рабочего населения. (Все делается по системе, заклейменной именем Sexploitation de ГЬоште par I homme3.) Точно таков же порядок экономических отношений и во всей остальной Западной Европе. Это факт, обнаруженный лучшими людьми самой Западной Европы и принуждающий их негодовать на действительность, их окружающую.
Таково же и положение умственной жизни на Западе. Правда, наука сделала великие успехи, но еще слишком мало имеет влияния на жизнь. Большинство не только народа, но даже образованных классов, погружено еще в дикие понятия, свойственные скорее временам кулачного права, нежели веку цивилизации. Когда лучшие люди в Западной Европе сравнивают образ мыслей огромного большинства своих сограждан с гуманными идеями современной науки, они приходят в отчаяние, видя, что не- сомненнейшие умственные и нравственные истины ее, достоверные, как аксиомы геометрии, ясные, кажется, как свет дневной, остаются еще неведомы или непоняты никем, кроме горсти немногих избранников, еще бессильных над нравами и стремлениями общества, по своей малочисленности. Приведем опять хотя один пример. При нынешнем развитии государственного порядка, когда масса побеждающего народа уже не грабит и не обращает в личное рабство своим сочленам всю массу побежденного народа (как то было при завоевании германцами провинций Римской империи), разумна и полезна только та война, которая ведется народом для защиты своих границ. Всякая война, имеющая целью завоевание или перевес над другими нациями, не только безнравственна и бесчеловечна, но также положительно невыгодна и вредна для народа, какими бы громкими успехами ни сопровождалась, к каким выгодным, по-видимому, результатам ни приводила. Это достоверно, как 2X2=4 .Л между тем, и во Франции, и в Англии люди, говорившие это во время последней войны с Россиею, были предметом общего посмеяния или негодования.
Злоупотребления, недостатки и бедствия в материальной и умственной жизни народов Западной Европы - это предмет неистощимый. Из тысячи обвинительных пунктов против западно-европейской действительности мы коснулись, и то слегка, без всяких подробностей, лишь двух- трех. Страшную картину современного быта своей родины представляет каждый из западноевропейских писателей, если только он добросовестен и стоит по мысли в уровень с гуманными идеями века. Это прискорбное разноречие действительности с потребностями и идеалами современной мысли с году на год становится тяжеле в Западной Европе.
Что удивительного, что преступного, если это самообличение Европы лучшими из ее детей находит отголосок и у нас? Всякая ложь вредна. Зачем нам оставаться в фантастической уверенности, будто бы Западная Европа - земной рай, когда на самом деле положение народов ее вовсе не таково? Не одни славянофилы стараются вы- весть нас из этого легкомысленного обольщения,- немногие, истинно серьезные мыслители, которых мы имели или имеем, выставляли нам недостатки западноевропейской действительности в самом резком виде. Пусть славянофилы, когда говорят об этом предмете, во многом ошибаются, принимая иное хорошее за дурное или наоборот,- эти частные ошибки не мешают справедливости общей идеи, повторяемой ими, но принадлежащей вовсе не им, а всем лучшим людям Запада, от которых они и узнали о ней,- не мешают справедливости этой общей идеи: Западная Европа вовсе не рай.
А когда мы подумаем о том, до какой степени у многих из так называемых западников темны еще понятия о том, что хорошо и что дурно в Европе, н как до сих пор очень многим кажется лучшим именно то самое, что есть худшего в Европе, то должны будем признаться, что критика европейского быта, которую славянофилы, прямо или через вторые руки, заимствуют из лучших современных мыслителей, далеко не бесполезна для очищения наших понятий о Европе. Конечно, эта критика соединяется, проходя через уста славянофилов, с примесями, чуждыми, иногда прямо враждебными ее духу,- но мы настолько уверены в здравом смысле русского племени, мало расположенного к отвлеченным фантазиям, что эти примеси внушают нам довольно мало опасения. Здравый смысл и такт действительности, которым очень сильны русские, довольно легко отличат фантастическую примесь от фактов. Притом же примеси, особенно любимые многими из славянофилов, выбраны ими из круга чувств, которые очень антипатичны русскому характеру. Ни заоблачные мечтания, ни самохвальство не в характере у русского человека.
Мало вероятности, чтобы заблуждения, противные племенному характеру, распространились в нации. Но если б это и было вероятно, все-таки надобно было бы сказать, что опасности для народного развития, представляемые этими примесями, менее важны, нежели выгоды, соединенные с некоторыми твердыми убеждениями славянофилов, (убеждениями, которые, будучи последним словом западноевропейской науки и опытности, но не вошед- ши еще в умственную рутину всех дюжинных западных писателей, живущих рутинными фразами, не получили еще и у нас права гражданства между огромным большинством тех так называемых западников, которые почерпают свои мнения из наиболее распространенных иностранных журналов и книжек, вроде Journal des De- bats 4, Revue des deux Mondes, сочинений Гизо, Тьера и т. II.
В пример, мы укажем на одно из таких убеждений, осуществление которого стало уже главною историческою задачею для государств, стоящих в челе цивилизации, как Франция и Англия.
Обеспечение юридических прав отдельной личности было существенным содержанием западноевропейской истории в последние столетия. Совершенного ничего нет на земле, но в чрезвычайно высокой степени цель эта достигнута на Западе. Право собственности почти исключительно предоставлено там отдельному лицу и ограждено чрезвычайно прочными, неукоснительно соблюдаемыми гарантиями. Юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица повсюду освящена и законами и обычаями. Не только англичанин, гордый своею личною независимостью, но и немец, и француз может справедливо сказать, что пока не нарушает законов, он не боится ничего на земле, и что личная собственность его недоступна никаким посягательствам. Но, как всякое одностороннее стремление, и этот идеал исключительных прав отдельного лица имеет свои невыгоды, которые стали обнаруживаться чрезвычайно тяжелым образом, едва он приблизился к осуществлению с забвением или сокрушением других не менее важных условий человеческого счастия, которые казались несовместны с его безграничным применением к делу. Одинаково тяжело для народного благоденствия легли эти вредные следствия на обоих великих источниках народного благосостояния, на земледелии и промышленности. Безграничное соперничество отдало слабых на жертву сильным, труд на жертву капиталу. При переходе всей почти земли в собственность частных лиц явилось множество людей, не имеющих недвижимой собственности,- таким образом возникло нро- летариатство. Владельцы мелких участков, на которые распалась земля во Франции, не имеют возможности применить к делу сильнейших средств для улучшения своих полей и увеличения жатв, потому что эти средства требуют капиталов и применимы только к запашкам большего размера. Они обременены долгами. В Англии фермеры имеют капиталы, но зато без значительного капитала невозможно в Англии и думать о заведении ферм, а люди, имеющие значительный запас наличных денег, всегда не многочисленны пропорционально массе народа,- и потому большинство сельского населения в Англии - батраки, положение которых очень печально. В заводско-фабричной промышленности вся выгода сосредоточивается в руках капиталиста, и на каждого капиталиста приходятся сотни работников,- пролетариев, существование которых бедственно. Наконец, и земледелие и заводско-фабричная промышленность находятся под властью безграничного соперничества отдельных личностей. Чем обширнее размеры производства, тем дешевле стоимость произведений, потому большие капиталисты подавляют мелких, которые мало-помалу уступают им место, переходя в разряд их наемных людей, а соперничеством между наемными работниками все более и более понижается заработная плата. Таким образом, с одной стороны, возникли в Англии и Франции тысячи богачей, с другой - миллионы бедняков. По роковому закону безграничного соперничества, богатства первых должны все возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе рук, а положение бедняков становится все тяжеле и тяжеле.
Но и в настоящем положение дел так противуестест- венно и тяжело для девяти десятых частей английского и французского населения, что необходимо должны были явиться новые стремления, которыми отстранялись бы невыгоды прежнего одностороннего идеала.
Подле понятия о безграничных юридических правах отдельной личности возникла идея о союзе и братстве между людьми; люди должны соединиться в общества, имеющие общий интерес, сообща пользующиеся силами природы и средствами науки для производства и для экономного потребления производимых ценностей. В земледелии братство это должно выразиться переходом земли в общинное пользование; в промышленности - переходом фабричных и заводских предприятий в общинное достояние компании всех работающих на этой фабрике, на этом заводе. Только это новое устройство экономического производства может дать благосостояние целому, например французскому или английскому, племени, и население этих стран, состоящее из тысячи богачей, окруженных миллионами бедняков, превратить в одну массу людей, не знающих роскоши, но пользующихся благоденствием.
Это новое стремление к союзному производству и потреблению является естественным продолжением, расширением, дополнением прежнего стремления к обеспечению юридических прав отдельной личности. В самом деле, не надобно забывать, что человек не отвлеченная юридическая личность, но живое существо, в жизни и счастии которого материальная сторона (экономический быт) имеет великую важность; и что потому, если должны быть для его счастия обеспечены его юридические права, то не менее нужно обеспечение и материальной стороны его быта. Даже юридические права на самом деле обеспечиваются только исполнением этого последнего условия, потому что человек, зависимый в материальных средствах существования, не может быть независимым человеком на деле, хотя бы по букве закона и провозглашалась его независимость. А при известной густоте населения и при известной степени развития экономических отношений (появление хороших путей сообщения, обширной торговли, механических способов производства и т. д.) материальное благосостояние может быть доставлено массе населения только экономическим соединением производителей для труда и потребления.
Но введение такого порядка дел чрезвычайно затруднено в Западной Европе безграничным расширением юридических прав отдельной личности. Братья в соединении живут гораздо с большим благосостоянием, нежели могли бы жить разделившись,- это истина, известная у нас каждому поселянину («раздел семьи па отдельные хозяйства разоряет семью» - это знает каждый у нас), но, живучи вместе, каждый из братьев должен жертвовать частью своего полновластия родовому союзу, ограничивать свои капризы, противные общей (и в том числе его собственной) пользе).
Однако же, вместо общих размышлений о славянофильстве, к выражению которых были мы ободрены благоприятным впечатлением, произведенным на публику первою книгою «Русской беседы» за нынешний год, пора нам заняться обозрением содержания этой книги, очень замечательной.
О статьях г. Самарина, на которые мы хотели бы особенно обратить внимание каждого из наших читателей, мы ничего не будем говорить; одна из них, написанная по поводу книги графа Орлова, «Очерки похода Наполеона против Пруссии в 1800 году», должна быть прочтена каждым живым человеком, и о ней ничего нельзя сказать, кроме похвал, которые мы уже сказали. Другая-«Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина», конечно, оставляет место некоторым очень серьезным возражениям, но сам г. Чичерин, вероятно, не останется в долгу у достойного противника, которого наконец нашел себе5. По нашему мнению, замечания г. Самарина таковы, что каждое из них заслуживает серьезного рассмотрения, а некоторые должны быть признаны справедливыми,- например, мысль о необходимости дополнить свидетельства юридических актов, собранные у автора, фактами, встречаемыми в других источниках истории (в иноземных писателях о России, в летописях, народных преданиях и песнях) и представляемыми изучением современного быта; но мы сильно сомневаемся, чтобы от расширения границ картины просветлели ее краски, как на то, по-видимому, надеется г. Самарин. Заметим также, что ответом на параллели русской системе кормления, находимые г. Самариным в истории западных государств, должно быть не отрицание сходства между сравниваемыми явлениями, а признание этих явлений одинаково невыгодными для государственного благоустройства, с прибавлением того, что в истории западных государств действие принципа, сходного с нашим кормлением, до некоторой степени уравновешивалось влиянием других начал, чего у нас почти не было.
Г. Чичерин, кажется, служит кошмаром «Русской беседы», которая в каждой из пяти вышедших до сих нор книг посвящала обширные статьи опровержению его мнений6. И в обозреваемой нами книге, кроме статьи г. Самарина, занимается этим делом еще другая, более обширная статья: «Критические замечания на сочинения г. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке»», г. II. И. Крылова. Конечно, эти замечания написаны с ученостью и умом, как и следовало ожидать от ученого, имеющего громкую известность. Но, по меткости и силе возражений, статью г. Самарина надобно поставить выше. Притом же г. Крылов говорит слишком докторальным тоном,- он слишком проникнут мыслью, что имеет дело с бывшим своим студентом. Так некогда поучал г. Погодин гг. Соловьева и Кавелина, которые, однако, справедливо говорили, что извлекают очень мало пользы из его назидательных бесед7
Чрезвычайно интересна но предмету, но суха и отчасти темна но изложению статья г. П. Р.-на «Об устройстве земледельческого сословия в Австрии». Гораздо яснее, хотя и короче, изложено это дело г. Е. Ламанским в «Экономическом указателе» (№ 13)8 Важно по множеству новых фактов, извлеченных из рукописных источников, сочинение г. А. Попова, «История возмущения Стеньки Разина». Сколько можно судить по первой части его, напечатанной в обозреваемой нами книге «Русской беседы», автор хочет ограничиться изложением сведений, представляемых его источниками; он избрал себе цель скромную, но полезную, и за извлечение фактов из-под архивного спуда он заслуживает полной признательности.