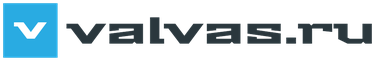К. . Письма царицы [Рец. на кн.: Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. / Пер. с англ. В.Д. Набокова. Берлин: Слово, 1922. Т. 1–2]
Кизеветтер А.А. Письма царицы [Рец. на кн.: Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. / Пер. с англ. В.Д. Набокова. Берлин: Слово, 1922. Т. 1–2] / А. Кизеветтер. // Современные записки. 1922. Кн. XIII. Культура и жизнь. С. 322–334.
КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ
ПИСЬМА ЦАРИЦЫ
(Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. Т.I. Книгоиздательство «Слово». Берлин 1922.)
После убийства царской семьи в Екатеринбурге найден был черный ящик, на котором были выгравированы буквы Н. А. В ящике оказались письма Александры Федоровны к Николаю II - всего четыреста писем за время от июля 1914 г. по 17 декабря 1916 г. Издательство «Слово» в Берлине приступило к опубликованию этой корреспонденции и пока выпустило первый том ее, содержащий 199 писем, кончая письмом от 16 января 1916 г. Письма даны и в оригинальном английском тексте и в переводе, исполненном В. Д. Набоковым.
Опубликованные письма представляют собою исторический материал первостепенной важности. Они бросают яркий свет на ту роль, которую сыграла Александра Федоровна в бессознательной подготовке крушения монархии в России. И общественная молва, и показания некоторых мемуаристов (см., наприм., воспоминания Витте) настойчиво и дружно утверждали, что именно Александра Федоровна являлась вдохновительницей того ультрареакционного политического курса, который изолировал монархию от всех живых сил страны, вырыл пропасть между престолом и общественной массой. Теперь, в письмах Александры Федоровны, мы получаем обильный материал, дающий полную возможность совершенно точно определить, в какой мере эта молва соответствовала действительности.
В каждом письме находим целый ряд фактов и намеков
и на семейные дела императорской четы, и на те пертурбации, которые разыгрывались в годы войны на политической сцене. Интимная драма Царского Села и зловещая трагедия России отразились в письмах Александры, преломленные в переживаниях этой женщины с душою честолюбивой, порывиcтo-страстной и бурной и с мыслью, безнадежно затуманенной предрассудками и признаками расстроенного воображения.
Впрочем, в отношении личной семейной драмы Николая и Александры письма, скорее, возбуждают любопытство читателя, нежели удовлетворяют его. Оно и понятно. Здесь Александре Федоровне приходилось касаться интимных обстоятельств, о которых в письмах к мужу и не было надобности говорить со всей подробностью: полунамеки и условные термины были вполне достаточны, чтобы корреспонденты могли понять друг друга. К тому же было бы и неосмотрительно называть все вещи своими именами: Александра несколько раз упоминает о том, что письма могут прочитываться посторонними людьми. И вот, в отношении интимных семейных обстоятельств, затронутых в письмах Александры, многое остается не вполне понятным читателю, многое требует специального разъяснения и дешифрирования.
Видную роль в разбираемой переписке играет А. А. Вырубова. Александра беспрестанно упоминает об этой «Ане». Всякому ясно, насколько важны эти упоминания. Ведь в личности Вырубовой несомненно таится ключ к разгадке всех тех патологических несообразностей, из которых была соткана семейная жизнь императорской четы. Исступленная поклонница Распутина, Вырубова была интимно близка с Александрой Федоровной и в то же время предпринимала сердечные атаки на Николая II. Можно себе представить, какие сложные психологические узоры могли развертываться на такой канве. Намеки на эти узоры мы и находим в письмах Александры. Но лишь - не более как намеки.
Коллекция писем как раз открывается горькими упреками Александры «Ане» за то, что она своим поведением нарушает спокойствие домашнего очага императрицы. Что-то произошло в Крыму в начале весны 1914 г., и это «что-то» наполнило душу Александры чувствами обиды, возмущения и, по-видимому, ревности. В ряде писем Александра высказывает удовольствие по поводу того, что Николай уехал из Ливадии и «Аня» со своими «историями» от него отдалилась. Это настроение остается в силе довольно долго. В октябре 1914 г. Александра пишет: «Аня настроена ко мне не очень любез-
но; можно сказать, что она была груба и сегодня вечером пришла намного позднее того часа, в который ее просили прийти, и странно обходилась со мной. Она усиленно флиртирует с молодым украинцем, но т ы е й н е д о с т а е ш ь, она тоскует по тебе - временами колоссально весела». В другом письме Александра с оттенком неудовольствия сообщает, что Аня окружает себя большими фотографическими портретами Николая. В ноябре 1914 г. Александра сообщает, что «Аня» намерена писать к Николаю и прибавляет: «разрешил ли ты это?» В январе 1915 г. Александра все еще вспоминает о «гнусном поведении Ани, особенно осенью, зимой и весной 1914 г.». За все время с апреля 1914 г. по апрель 1915 г. эти упоминания об «Ане» сопровождаются раздраженными отзывами о ее несносном характере, о ее легкомыслии, ветрености и черством, отталкивающем эгоизме. Встречаются и такие строки, в которых видно желание противодействовать физическому обаянию Ани. Аня «только и говорит о том, что она похудела, - читаем в письме от 27 января 1915 г., - хотя нахожу, что ее живот и ноги колоссальны и крайне неаппетитны». И тут же говорится, что отношения с Аней никогда уже не восстановятся в прежнем виде, что она сама порвала постепенно прежнюю связь. «Хотя она и говорит, что меня любит, я знаю, что она меня гораздо меньше любит, чем прежде, и у нее все сосредоточено в ее собственной личности - и в тебе. Будем осторожны, когда ты вернешься».
Однако к весне 1915 г. отношение Александры Федоровны к Вырубовой существенно изменяется. Раздражительные отзывы об Ане исчезают из писем. Появляются совершенно иные нотки. Начиная приблизительно с мая 1915 г. Александра все чаще сообщает в самом благожелательном тоне о том, что она просидела весь вечер с Аней, или ездила с ней кататъся, или много говорила с ней. Уже без всякого оттенка досады Александра передает мужу, что Аня шлет ему «нежнейший привет», а в письме от 4 сентября Александра с явным одобрением пишет о проекте Ани насчет того, чтобы провести телефон прямо между комнатой Николая и комнатой Александры. «Это было бы чудно, - замечает Александра, - и всякое хорошее известие или вопрос можно было бы сразу передать, мы бы (мы - т. е. Александра и Аня, теперь они уже заодно. - А.К.) условились не надоедать тебе».
Откуда же эта перемена? Кажется, в письмах можно нащупать и ответ на этот вопрос. В письме от 5 апреля 1915 г. Александра передает, что Татьяна и Анастасия были у
Ани, встретили там Распутина («Нашего Друга», как неизменно называет его в письмах Александра), и тот стал говорить, что Аня плачет и горюет, потому что получает мало ласки. Последующее изменение тона в отзывах Александры о Вырубовой совпадает с более длительными пребываниями Распутина в Царском Селе. Там устанавливается дружное трио - Александра, Вырубова и Распутин, - и это трио сообща начинает все усиленнее воздействовать на Николая в вопросах государственного управления.
Картина этого воздействия ярко рисуется в рассматриваемых письмах. Все без исключения письма наполнены страстными излияниями любви Александры к Николаю. Можно открыть наугад любую страницу этой переписки - и вам непременно бросятся в глаза нежные эпитеты всякого рода, воспоминания о супружеских ласках, восторженные восхваления «глубоких глаз», прелестных рук, милого лица Николая и т. п. выражения тоски по отсутствующем «муженьке», признания в том, что «ты покорил меня раз навсегда» и т. д. Можно подумать, что это пишет новобрачная, еще не пережившая медового месяца.
Те же письма свидетельствуют, однако, и о том, что «покоренная раз навсегда» стремится вовсе не покоряться, а, напротив того, властвовать и вести за собой. Правда, через все письма красной нитью проходит призыв к Николаю сбросить свою мягкость, уступчивость, скромность и стать во всеоружии своего самодержавного самовластия, заставить всех исполнять свою волю, научиться внушать всем и каждому страх и покорность.
«Помни, что ты император и что другие не смеют брать на себя так много».
«Ты должен меньше обращать внимания на то, что тебе будут говорить, но пользоваться т в о и м с о б с т в е н н ы м и н с т и н к т о м и руководиться им, чтобы быть более в себе уверенным».
«Никогда не забывай, что е с т ь и должен быть самодержавным императором».
«Когда, наконец, ты хватишь рукой по столу и накричишь на всех. Тебя не боятся. А д о л ж н ы бояться. Ты должен их напугать, иначе все садятся на нас верхом».
«Милушку всегда надо подтолкнуть и напомнить ему, что он есть император и может делать все, что ему хочется. Ты никогда этим не пользуешься. Ты должен показать, что у тебя с в о и решения и с в о я воля».
«Как им всем нужно почувствовать ж е л е з н у ю в о л ю и р у к у - до сих пор твое царствование было царствование мягкости, а теперь оно должно быть цар-
ствованием власти и твердости - ты повелитель и хозяин России, и всемогущий Господь тебя там поставил, и они должны преклониться перед твоею мудростью и твердостью. Довольно доброты. Они думали, что тебя могут обернуть вокруг пальца».
Подобными призывами испещрена вся переписка. Однако сильно ошибся бы читатель, предположив на основании только что приведенных выдержек, что Александра, взывая к самостоятельности мужа, разумела под ней действительную независимость Николая от чьих-либо внушений и указаний. На поверку выходит, что «быть самостоятельным» значило на языке Александры подчиняться руководительству своей супруги.
«Господь желает, чтобы твоя женка тебе помогала», - написано в одном из писем. В других письмах этого не написано e n t o u t e s l e t t r e s, но всякий призыв к самостоятельности неизменно сопровождается просьбами или требованиями поступить согласно указаниям Александры. Порою среди таких просьб и требований прорываются и еще более самоуверенные заявления: «Вот если бы теперь я была в Ставке, я бы заставила их сделать то-то и то-то».
К чему же призывала Александра своего супруга? Каков был тот собственный ее политический курс, который она так убежденно и настойчиво предписывала Николаю? Ее программа крайне несложна и определенна, вся она исчерпывается одним положением: нужно только одно - послушно и точно исполнять указания «нашего Друга» т. е. Распутина. «Поступи, как ты с а м решил» - это всегда означало на языке Александры «непременно сделай так, как посоветовал «Друг»; не слушайся никого» - всегда означало «никого, кроме Распутина». Все письма 1915 г. наполнены сообщениями о том, что указывает сделать «наш Друг», и страстными уверениями, что только в выполнении этих указаний заключается залог спасения. Вывод получается совершенно несомненный: это Распутин положил конец размолвке Александры с Аней, сблизил их вновь друг с другом для того, чтобы чрез них обеих воздействовать на Николая.
Рассматриваемые письма с полною ясностью устанавливают, в чем состояла тайна того психического плена, в котором Распутин держал Александру Федоровну. Легенду о физической связи между ними нужно признать совершенно опрокинутой. Полная и безусловная покорность Александры Распутину проистекала из совершенно иных источников. Прежде всего, здесь сказался тот религиозный фетишизм, который уже владел
душою Александры задолго до появления Распутина. Она сама несколько раз вспоминает в письмах 1915 года про доктора Филиппа и уподобляет таинственную силу Распутина над людьми былым чарам Филиппа. Вера в амулеты всякого рода никогда не иссякала в душе Александры. Она заклинает Николая пользоваться палкой, подаренной ему Распутиным, напоминая про такую же чудодейственную палку, некогда подаренную доктором Филиппом. Несколько раз она просит Николая не забывать перед каждым ответственным заседанием причесываться гребенкой Распутина, ибо эта гребенка вдохновляет мозг на правые мысли. Встречаем еще упоминания о каком-то особенном образе с колокольчиками, который был подарен Александре Распутиным. На такой благодарной почве, разумеется, не так-то трудно было закрепить власть над душою этой женщины всякому сколько-нибудь искусному авантюристу. А у Распутина был по этой части в руках такой, козырь, с которым он мог вести заведомо беспроигрышную игру. Рассматриваемые письма вполне подтверждают свидетельство Жильяра о том, что главною основой возвышения Распутина служила вера Александры в спасительность распутинских чар для здоровья наследника.
«Пока наш Друг*) с нами, наш сын спасен», - пишет Александра Федоровна. Из этой уверенности проистекало убеждение и в том, что Распутин есть существо, посланное Богом для спасения всей царской семьи и России, и потому идти против его желаний - значит совершать величайший из всех грехов. Этим основным убеждением обусловливались все указания, советы и требования, которые Александра предъявляла Николаю.
Я уже указывал на то, что, призывая Николая к самостоятельности, Александра не верила в его способность к независимому образу действий. «Покорная жена» никак не могла сдержать проявления собственных волевых импульсов. «Вот бы меня на твое место, я бы сумела настоять на своем», - такова мысль, сквозящая во многих строках ее писем. Проскальзывает и другая мысль - о том, что ей и ее супругу, в сущности, надлежало бы поменяться полом. «Твоя натура вся женственная», - пишет она мужу, а в себе самой она чувствует мужчину. Несколько раз Александра выражает эту мысль довольно своеобразно: «у меня надеты н е в и д и м ы е ш т а н ы» - пишет она не однажды. Однако и ее мужественная самостоя-
_________________________________
*) Слово «наш Друг» она всегда пишет с большой буквы; для нее это - божественный посланник небес.
тельность выражалась лишь в настойчивом проведении чужих внушений. Стоит ей только написать Николаю «поступи, как я советую», - и тотчас же, через несколько строк оказывается, что за ее спиной стоит «Наш Друг», этот посланник Божий, которого нужно во всем непререкаемо слушаться.
Как реагировал Николай на эти внушения - это могли бы засвидетельствовать его ответные письма; некоторые из этих писем мне довелось видеть в Москве, где они хранятся вместе с письмами Александры. Из того, что я мельком видел, можно было сделать лишь то заключение, что Николай до конца питал к жене чувство влюбленности и подобно ей был убежден в том, что, в конце концов, ему не может грозить никакой серьезной опасности, ибо он - помазанник Божий. В рассматриваемое издание письма Николая не вошли, но и по письмам Александры видно, что ее внушения почти всегда достигали цели. К чему же сводились эти внушения?
Письма Александры в полной мере опровергают легенду о том, что она была прикосновенна к военной «измене». Зато в столь же полной мере эти письма подтверждают, что Александра играла решающую роль в установлении курса внутренней политики и в деле правительственных назначений.
Политический курс Александры может быть выражен в двух словах: необходимо отделаться от народного представительства и всяких других органов независимого общественного мнения и высоко держать знамя самодержавия. С появлением Думы самодержавие не пресеклось. Эту мысль Александра настойчиво выдвигает в письмах. Но, так как Дума стремится ограничить самодержавную власть монарха и хочет сама всюду «совать свой нос», то с нею необходимо возможно скорее покончить. Строки, посвященные Александрой Думе, сочатся ненавистью. 17 июня 1915 г. Александра пишет: «Вот теперь Дума собирается в августе. А наш Друг несколько раз просил тебя созвать ее как можно позже, а не теперь, так как они все должны были бы работать на своих местах, - а здесь они захотят вмешиваться и говорить о вещах, которые их не касаются. Никогда не забывай, что ты е с т ь и должен остаться самодержавным императором. Мы не подготовлены к конституции». Через неделю Александра возвращается к этому вопросу: «Милушка, я слышала, что этот отвратительный Родзянко и другие были у Горемыкина с просьбой, чтобы Дума была тотчас же созвана. Ах, по-
жалуйста, не надо!.. их не следует пускать... Россия, слава Богу, не конституционное государство, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, в которые они не смеют вмешиваться». Когда же Дума в августе собралась, Александра не перестает твердить о ее скорейшем роспуске. Иного названия, как д у р а к и, она для членов Думы не знает. «Неужели Думу, наконец, не закроют - зачем тебе быть здесь для этого? Как эти дураки нападают на военных цензоров; это показывает, что они (т.е. цензоры. - А.К.) нужны» - пишет Александра от 27 августа. «Я надеюсь, что ты заставишь Думу убраться» - читаем в письме от 29 августа. На следующий день новое письмо со словами: «только п о с к о р е е закрой Думу, прежде чем будут представлены их вопросы» и т. д. Не в меньшей степени, нежели Дума, Александре мозолят глаза московские совещания общественных деятелей. 2 сентября 1915 г. она пишет: «…теперь д у м ц ы хотят собраться в Москве, чтобы обо всем переговорить, когда здесь их дело прекратилось. Следовало бы это строго запретить, это может только привести к большим смутам. Если они это сделают, следовало бы сказать, что в таком случае Дума будет созвана гораздо позже... в Москве будет еще хуже, чем здесь, надо быть строгим. Ах, неужели нельзя повысить Гучкова?» На следующий день она пишет: «Необходимо присмотреть за Москвой и заранее все подготовлять и быть в гармонии с военными, иначе опять возникнут беспорядки». Когда в Москве общегородской и общеземский съезды, состоявшиеся в сентябре 1915 г., постановили довести до сведения государя о необходимости призыва к власти лиц, пользующихся доверием страны, Александра написала: «Ну, посмотри, что они говорили в Москве, опять подымая вопросы, которые решили не поднимать, и прося об ответственном министерстве, что совершенно невозможно, даже Куломзин это прекрасно видит, - неужели они в самом деле имели дерзость послать тебе предполагавшуюся телеграмму?» В письме от 11 сентября: «Правда ли, что они намереваются послать Гучкова и некоторых других из Москвы к тебе депутацией? Серьезное железнодорожное несчастье, в котором он бы один пострадал, было бы хорошим Божьим наказанием и хорошо заслуженным».
Еще энергичнее Александра вмешивается в министерские назначения. Можно сказать, что с каждым письмом это вмешательство становится все шире и настойчивее. Та министерская чехарда, которою ознаменовалось последнее время цар-
ского режима, направлялась именно Александрой по указаниям Распутина. Разбираемые письма свидетельствуют об этом как нельзя более ярко. Министров, ей неугодных, Александра честит в письмах в таких же выражениях, как и членов думы. «Дураки», «мерзавцы» и тому подобные словечки сплошь да рядом срываются с ее пера. Только о Горемыкине и Хвостове она отзывается с неизбежным доброжелательством, доверяет им и ждет от них спасительных указаний и мероприятий. Отзывы обо всех остальных дышат презрением или негодованием. А критерий оценки людей неизменно один: человек оценивается так или иначе, смотря по тому, как он относится к Распутину. Этот критерий заслоняет собою и чисто политические соображения. Усерднейшим слугою старого режима был Щегловитов. Но ему случилось как-то отвергнуть искательство одного из протеже Распутина - и вот и на Щегловитова посыпались громы в письмах Александры.
По отношению к лицам второстепенным Александра и Распутин позволяли себе распоряжаться от имени Николая без ведома последнего. Так, в октябре 1914 г. «Аня» и Распутин решили сместить таврического губернатора Лавриновского. И вот Александра пишет: «Наш Друг хочет, чтобы я поскорее поговорила с Маклаковым, так я пошлю за ним... и скажу Маклакову, что мы с тобою уже говорили насчет Лавриновского... пожалуйста, не сердись на меня и дай мне ответ по телеграфу словами «одобряю» или «жалею» по поводу моего вмешательства». По отношению к лицам, стоявшим на более высоких, постах, этого делать было нельзя, и вот в этих случаях в письмах Александры открывалась настоящая атака на Николая.
Уже с сентября 1914 г. Александра открывает кампанию против Николая Николаевича, прямо указывая на то, что его не выносит Распутин. Эта кампания продолжается все crescendo - Александра Федоровна никогда не забывает коснуться действий «Николаши», в которых она видит желание затмить своей личностью государя и самому выдвинуться на первое место. «Николаша, - пишет она в июне 1915 г., - держит тебя поблизости, чтобы заставить тебя подчиняться в стать его идеям и дурным советам. Неужели ты до сих пор не веришь, мой мальчик?» - и в том же письме, несколько ниже: - «Друг Наш видит Николашу насквозь, а Николаша знает мою волю и боится моего влияния на тебя, направляемого Гр. (т.е. Распутиным. – А.К.)».
С июня 1915 г. начинается особенно настойчивое вмеша-
тельство Александры, т. е. Распутина, в министерские назначения, и затем оно все усиливается в геометрической прогрессии. В июне 1915 г. Николай находится в ставке, и оттуда до Александры и Распутина дошли вести о готовящихся переменах в составе министерства. «Город полон сплетен, - писала Александра, - будто всех министров сменят - Кривошеин будет первым министром, Манухин - вместо Щегловитова, Гучков - помощником Поливанова... и даже Самарин вместо Саблера». Эти слухи вызвали большое неудовольствие. И немудрено: Манухина Александра уже ранее называла «этот п р о т и в н ы й Манухин». Гучкова - как мы видели выше - она готова была чуть ли не повесить. А назначение Самарина представлялось Александре еще горшим злом, ибо «Самарин, - как писала она, - конечно, пойдет против нашего Друга». И вот Александра бьет тревогу. «В тысячу раз лучше оставить еще на несколько месяцев Саблера, нежели назначать Самарина». Вскоре к этим сведениям присоединилось еще известие о назначении Щербатова министром внутренних дел и Джунковского - его товарищем. И тревога поднялась еще несколькими градусами выше. К Щербатову Александра сначала отнеслась довольно спокойно, и только впоследствии она начала восставать также и против него, обвиняя его в потворстве либеральному общественному мнению. Но появление в рядах правительства Самарина и Джунковского сразу привело Александру в величайшее беспокойство. Она решила, что все эти назначения внушены Николашей (Николаем Николаевичем) и прямо направлены против Распутина. Это - «московская банда подымает голову», «Джунковский ненавидит нашего Друга, а потому является и моим личным врагом», - твердит Александра в своих письмах. Повидав затем нового военного министра Поливанова, она не одобрила его: «Он мне совсем не нравится, я предпочитаю Сухомлинова, хотя Поливанов и умнее». И все эти неодобрительные восклицания насчет новых назначений неизменно сопровождаются припевом: «Ах, как мне не нравится твое пребывание в ставке и что ты слушаешься советов Николаши». Жалобами дело не ограничивается. Распутин и Александра тотчас начинают выдвигать своих кандидатов в виде противоядия, и в этом им помогает Горемыкин. В августе Распутин одерживает крупную победу: Николай Николаевич отставляется от верховного командования, Николай II сам становится Верховным главнокомандующим. 22 августа Александра пишет по этому поводу ликующее письмо - «теперь твое
солнце восходит, - пишет она Николаю, - и светит так ярко». Теперь - «…ты зачаруешь всех этих великих неудачников, трусов, потерявших дорогу, шумных, слепых, узких, бесчестных, фальшивых». В том же письме Александра, ссылаясь на одобрение Горемыкина, выдвигает кандидатуру А. Н. Хвостова в министры внутр. дел. То был прямой ставленник Распутина. В это время несколько министров, кажется, по почину Сазонова, обратились к государю с коллективным письмом, в котором советовали ему не брать на себя верховного командования. По этому поводу Александра пишет письмо, в котором негодование бьет через край, Сазонова называет дураком и подписывается: «навсегда твоя доверчивая г о р д а я женка».
С конца августа Александра усиливает натиск на Николая, требуя смещения Самарина и Джунковского в связи с делом Варнавы, которого Синод решил сместить с епископской кафедры в Тобольске за самовольную канонизацию Иоанна Тобольского. Делу Варнавы Александра посвящает пространные письма, горой стоит за него, называя его ласкательным прозвищем «суслик», и сообщает Николаю списки лиц, которые могли бы заменить Самарина. Кампания против только что назначенных Самарина и Джунковского ведется систематически, из письма в письмо: то называются кандидаты их возможных заместителей, то письма наполняются самыми резкими нападками на личности Самарина и Джунковского, то вопрос ставится на личную почву, и Александра жалуется на то, что Самарин и Джунковский наносят ей персональные оскорбления, называя ее в беседах с разными людьми «сумасшедшей бабой». Наряду с этим идет такая же кампания за назначение в министры внутр. дел А. Н. Хвостова с прямыми указаниями на то, что его рекомендует Распутин. Как известно, по всем этим пунктам Распутин и Александра вскоре получают полное удовлетворение. В конце сентября Самарин заменяется Волжиным, Щербатов - Хвостовым, в товарищи к которому определяется Белецкий. И Александра снова торжествует победу и пишет мужу: «Целую и ласкаю каждое твое нежно любимое местечко и гляжу в твои глубокие, нежные глаза, которые давно меня совсем покорили». Только одним обстоятельством она недовольна: «Душка, - пишет она от 6 октября, - почему Джунковский получил преображенцев и семеновцев? Это ему слишком много чести после его подлого поведения, это портит эффект наказания, он должен бы получить армейские полки». Дело в том, что «хвост» (т. е. Хво-
стов) принес доказательства тому, что Джунковский продолжает говорить дурно про «Нашего Друга».
Так, кабинет Александры окончательно становится истинной лабораторией правительственных смещений и назначений. 7 октября Александра замечает в письме, что на место Джунковского в командиры отдельного корпуса жандармов мог бы подойти Татищев, зять Зизи, и что на него указывает Хвостов. Через несколько дней это назначение состоялось. С середины ноября в письмах начинаются упоминания о другом Татищеве, который «очень любит Григория, не одобряет московского дворянства и ясно видит ошибки, которые делает Барк». Несколько раньше упоминается о Наумове. И вскоре Татищев становится министром финансов, а Наумов - министром земледелия.
Не буду испещрять статьи дальнейшими примерами, внимательный читатель писем без труда увеличить их список. Наконец в начале января 1916 г. появляется в письмах имя Штюрмера. В письме от 7 января между прочим читаем: «Душка, я не знаю, но я все-таки подумала бы о Штюрмере; у него голова совсем достаточно свежа. Хвостов чуточку надеется получить это место, но он слишком молод! Штюрмер подошел бы на время, а потом, если ты захочешь найти другого, ты можешь его сменить, но только не давай ему переменить свою фамилию, это ему больше повредит, чем если он сохранит свое старое и почетное имя, ты помнишь, Г р и г о р и й т а к с к а з а л». И тут же прибавлено, что Штюрмер очень ценит Григория и что это - «очень большая вещь». 9 января она пишет, что назначение Штюрмера не следует откладывать, чтобы он успел до созыва Думы подготовиться, а Горемыкин этим обижен не будет, так как Штюрмер - пожилой человек. «Я бы это спокойно сделала теперь в ставке и не откладывала бы надолго, поверь мне, душка». И эти внушения не замедлили увенчаться успехом. Уже 10 января Александра пишет: «Бесконечно благодарю тебя, душка; ты прав насчет Штюрмера и громового удара».
На этом можно кончить. В настоящей заметке я не имел в виду исчерпать всего содержания опубликованных писем. Я хотел только отметить наиболее характерные черты этой переписки. Эти письма как нельзя более отчетливо обрисовывают руководящую роль Распутина в направлении курса внутренней политики в последние годы царствования Николая. Александра Федоровна служила послушным рупором для внушений Григория и вкладывала всю присущую ей страстность
в соответствующие атаки на Николая, всегда приводившие к желанному ей и ее другу результату. В своем безнадежном ослеплении она внушала Николаю одно роковое решение за другим. Хвостов, Штюрмер - ведь это были последовательные вехи в быстро разраставшемся отчуждении двора от народного представительства и всех серьезных элементов общества. Каждое дальнейшее назначение оказывалось все более задирающим, все более резким вызовом общественному мнению. И, обрывая все связующие нити с обществом, поставив себе единым законом политики точное выполнение всякого внушения Распутина, Александра Федоровна шла напролом, зажмуривая глаза на реальную обстановку окружающей действительности и сама не подозревая, что она влечет и себя самое, и свою семью, и весь отстаиваемый ею режим - к краю роковой пропасти.
Роль, сыгранная Александрой Федоровной в этом направлении, была известна, конечно, и раньше. Но письма ее к Николаю обрисовывают эту роль с полной конкретностью, раскрывают момент за моментом все те последовательные шаги, из которых слагался процесс растущего воздействия Распутина на ход внутреннего управления в период уже начавшейся агонии отмиравшего старого порядка, и в этом-то и заключается главный исторический интерес разобранных писем.
Переписка Николая и Александры / М.: Захаров, 2013Мое бесценное сокровище!
Ты прочтешь эти строки, ложась в постель в чужом месте в незнакомом доме. Дай Бог, чтобы поездка оказалась приятной и интересной,
а не слишком утомительной или слишком пыльной. Я очень рада, что у меня есть карта и что я могу следить по ней ежечасно за тобой. Мне ужасно будет недоставать тебя. Но за тебя я рада, что ты будешь в отсутствии два дня — получишь новые впечатления и не будешь слушать Аниных* выдумок.
У меня тяжело и больно на душе. Почему хорошее отношение и любовь всегда так вознаграждаются? Сперва черное семейство**, а теперь она? Постоянно тебе говорят, что недостаточно проявляешь любовь. Ведь мы открыли ей доступ в наши сердца, в наш дом, даже в нашу частную жизнь — и вот нам награда за все! Трудно не испытывать горечи — уж очень жестока несправедливость. Да смилуется над нами Бог и да поможет Он нам, — так тяжело на душе! Я в отчаянии, что она причиняет тебе мученья и пристает с неприятными разговорами, лишающими тебя покоя. Постарайся об этом позабыть в эти два дня.
Благословляю тебя, крещу и крепко обнимаю — целую тебя всего с бесконечной любовью и преданностью. Завтра утром в 9 ч. пойду в церковь, постараюсь сходить туда и в четверг. Молиться за тебя — моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ.
Спи спокойно, мое солнышко, мой драгоценный, — тысячу нежных поцелуев шлет тебе твоя старая Женушка.
Да благословит и хранит тебя Бог!
29 апреля 1914 года, Аскания-Нова***. Телеграмма
Прибыли благополучно получасом раньше, чем ожидали. После Эриклика прекрасная жаркая погода. Восхитительное место, такой милый, приветливый народ. Вечером буду телеграфировать подробнее. Нежно люблю. Ники.
Туман на горах. Утром были у обедни и в часовне. Немного гуляла днем одна с детьми. Алексей* в Массандре. Голова болит. Скучаем. Целуем крепко. Желаем благополучного возвращения. Храни тебя Бог. Аликс.
29 апреля 1914 года, Аскания-Нова. Телеграмма
Спасибо за телеграмму. Видел интересных животных и птиц. Все они живут вместе на свободе. Гулял в прелестном парке с прудами, полными рыбы. Ездил вокруг имения по степи. Теперь отправляюсь обедать. Спокойной ночи всем милым. Ники.
29 апреля 1914 года, Ливадия. Телеграмма
Сердечно благодарю за две телеграммы. Рада, что очень интересно и удачно. Шлю пожелания спокойной ночи и счастливого путешествия. Рано ложусь спать. Надеюсь завтра утром опять пойти к обедне. Благословения и привет от всех шести. Аликс.
30 апреля 1914 года, Аскания-Нова. Телеграмма
Надеюсь, спала хорошо. Нынче гораздо прохладнее. После 7 ч. 30 м. разъезжал и видел разные породы скота. После раннего завтрака отправляюсь в 10 ч. обратно. Так жду этого вечера! Нежно целую тебя и детей. Ники.
20 июня 1914 года, Кронштадт. Радиотелеграмма
Английская эскадра прошла мимо яхты ровно в полдень. Картина была очень красивая, погода чудная — жаркая. Будем дома к обеду. Все обнимают. Ники.
Любимый мой!
Мне очень грустно, что не могу сопровождать тебя — но я решила, что лучше мне здесь спокойно оставаться с детьми. Сердцем и душой постоянно около тебя, с чувством нежнейшей любви и страсти, все молитвы мои о тебе, а потому я рада, что могу тотчас после твоего отъезда отправиться к вечернему богослужению, а завтра утром в 9 часов к обедне. Буду обедать с Аней, Марией и Анастасией*, а затем рано лягу спать. Мария Барятинская будет у нас к завтраку и в последний раз проведет со мной послеобеденные часы. Я надеюсь, что море будет спокойно и ты насладишься плаванием, которое будет для тебя отдыхом — ты нуждаешься в нем, так как выглядел таким бледным сегодня.
Чрезвычайно остро буду ощущать твое отсутствие, мой бесценный. Спи хорошо, мое сокровище! Моя постель будет, увы, так пуста!
Благослови тебя Боже, — целого тебя.
Нежнейшие поцелуи от твоей старой Женушки.
Мой родной, мой милый!
Я так счастлива за тебя, что тебе удалось поехать, так как я знаю, как глубоко ты страдал все это время, — твой беспокойный сон доказывал это. Это был вопрос, которого я умышленно не касалась, зная и отлично понимая твои чувства и в то же время сознавая, что тебе лучше не быть сейчас во главе армии. Это путешествие будет маленьким отдыхом для тебя, и, надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Могу себе представить их радость при виде тебя, а также твои чувства — как жаль, что не могу быть с тобой и все это видеть! Более чем когда-либо тяжело прощаться с тобой, мой ангел, — так безгранично пусто после твоего отъезда. Затем ты, я знаю, несмотря на множество предстоящих дел, сильно будешь ощущать отсутствие твоей маленькой семьи и драгоценного Крошки. Он быстро поправится теперь, когда наш Друг** его навестил, и это будет для тебя утешением. Только бы были хорошие известия в твое отсутствие, ибо сердце обливается кровью при мысли, что тяжелые известия тебе приходится переживать в одиночестве.
Уход за ранеными служит мне утешением, и вот почему я даже в это последнее утро намерена туда идти, в часы твоего приема, для того чтобы подбодрить себя и не расплакаться перед тобою. Болящему сердцу отрадно хоть несколько облегчить их страдания. Наряду с тем, что я переживаю вместе с тобой и дорогой нашей родиной и народом, — я болею душой за мою «маленькую, старую родину», за ее войска, за Эрни*** и Ирен**** и за многих друзей, терпящих там бедствия. Но сколько теперь проходят через то же самое! А затем как постыдна и унизительна мысль, что немцы ведут себя подобным образом! Хотелось бы сквозь землю провалиться! Но довольно таких рассуждений в этом письме — я должна вместе с тобой радоваться твоей поездке, и я этому рада, но все же, в силу эгоизма, я ужасно страдаю от разлуки — мы не привыкли разлучаться, и притом я так бесконечно люблю моего драгоценного мальчика. Скоро двадцать лет, как я твоя, и каким блаженством были все эти годы для твоей маленькой женушки!
Как хорошо, что ты повидаешь дорогую Ольгу*. Это ее подбодрит и будет хорошо для тебя. Я тебе дам письмо и вещи для ее раненых.
Дорогой мой, мои телеграммы не могут быть очень теплыми, так как они должны проходить через столько военных рук, но ты между строк сумеешь прочитать мою любовь и тоску по тебе.
Родной мой, если ты как-нибудь почувствуешь себя не вполне хорошо, непременно позови Федорова**, ты ведь сделаешь это, — а также присматривай за Фредериксом***.
Мои самые горячие молитвы следуют за тобой денно и нощно.
Я молю о Божьей милости для тебя — да сохранит Он, научит и направит и да возвратит тебя сюда здравым и невредимым!
Благословляю тебя — и люблю тебя так, как редко когда-либо кто был любим, — целую каждое дорогое местечко и нежно прижимаю тебя к моему старому сердцу.
Навсегда твоя старая Женушка.
Икона эту ночь полежит под моей подушкой перед тем, как я тебе передам ее вместе с моим горячим благословением.
Мой возлюбленный!
Я отдыхаю в постели перед обедом, девочки ушли в церковь, а Бэби**** кончает свой обед. У него по временам лишь слабые боли. О, любовь моя, как тяжко было прощаться с тобой и видеть это одинокое бледное лицо, с большими грустными глазами, в окне вагона! Я восклицала мысленно — возьми меня с собою! Хоть бы Н.П.С.***** или Мордвинов были с тобой, — будь какая-нибудь молодая любящая душа около тебя, ты бы чувствовал себя менее одиноко и более «тепло».
Вернувшись домой, я не выдержала и стала молиться, — затем легла и покурила, чтобы оправиться. Когда глаза мои приняли более приличный вид, я поднялась наверх к Алексею и полежала некоторое время около него на диване в темноте — это мне помогло, так как я была утомлена во всех отношениях. В 4 1/4 ч. я сошла вниз, чтобы повидать Лазарева и передать ему маленькую икону для его полка, — я не сказала, что это от тебя, а то бы тебе пришлось раздавать их всем вновь сформированным полкам. Девочки работали на складе. В 4 1/2 ч. Татьяна* и я приняли Нейдгардта** по делам ее Комитета — первое заседание состоится в Зимнем дворце в среду, после молебна, я опять не буду присутствовать. Полезно предоставлять девочкам работать самостоятельно, их притом ближе узнают, а они научаются приносить пользу.
Во время чая просмотрела доклады, затем — давно ожидаемое письмо от Виктории***, датированное 1/13 сентября, — оно долго шло с оказией. Я выписываю из этого письма то, что могло бы иметь интерес для тебя: «Мы провели тревожные дни во время долгого отступления союзных войск во Франции. Совершенно между нами (а потому, милая, лучше не говори об этом никому) — французы сперва предоставили английской армии одной выдерживать весь напор тяжелой германской фланговой атаки, и если бы английские войска были менее упорны, то не только они, но и все французские силы были бы совершенно смяты. Сейчас все это улажено, и два французских генерала, причастных к этому делу, отставлены Жоффром и заменены другими. В кармане у одного из них оказалось шесть невскрытых записок от английского главнокомандующего Френча, другой воздерживался от посылки войск и ответил на призыв прийти на помощь, что его лошади слишком устали. Сейчас это уже в прошлом, но много хороших офицеров и солдат поплатились за это жизнью и свободой. К счастью, это держалось в тайне, и здесь народ не знает обо всем этом».
«Требуемые 500 000 рекрут почти уже набраны и усиленно занимаются, обучаясь в течение всего дня, — много дворян также стали в ряды и тем подали хороший пример. Поговаривают о призыве еще 500 000, включая сюда контингенты из колоний. Мне лично не нравится мысль об индийских войсках, пришедших воевать в Европе, но это отборные полки, поскольку они уже служили в Китае и в Египте и проявили величайшую дисциплинированность, так что те, кому это ближе известно, уверены, что они будут вести себя превосходно (не станут грабить или убивать). Их высшее офицерство сплошь одни англичане. Друг Эрни — махараджа из Биканира — приедет с собственным контингентом; в последний раз я видела его, когда он гостил у Эрни в Вольфсгартене. Джорджи* написал нам отчет о своем участии в морском бое у Гельголанда. Он командует передней башней и дал ряд залпов, проявив, по словам его капитана, большое хладнокровие и здравый смысл. Д. говорит, что адмиралтейство не оставляет мысли о попытке уничтожения доков в Нильском канале (уничтожение одних только мостов было бы мало полезным) при помощи аэропланов, но это чрезвычайно трудно, так как все это прекрасно защищено, и приходится дожидаться благоприятного случая, иначе попытка не увенчается успехом. Убийственно то обстоятельство, что единственный, могущий быть использованным для войск вход в Балтийское море ведет через Зунд, а он недостаточно глубок для военных кораблей и больших крейсеров. В Северном море немцы разбросали везде кругом мины, безрассудно подвергая опасности нейтральные торговые суда, и теперь при первых же сильных осенних ветрах они поплывут (так как не прикреплены к якорям) к голландским, норвежским и датским берегам, а некоторые обратно к германским, надо надеяться».
Она шлет сердечный привет. Сегодня после обеда солнце так ярко светило, но только не в моей комнате — чаепитие прошло как-то грустно и необычно, и кресло глядело печально без моего сокровища — хозяина. Мария и Дмитрий** приглашены к обеду, а потому я прерву свое писание и посижу немного с закрытыми глазами, а письмо закончу вечером.
Мария и Дмитрий были в хорошем настроении, они ушли в 10 часов с намерением навестить Павла***. Бэби был неугомонен и уснул лишь после 11 ч., но у него не было сильных болей. Девочки пошли спать, а я отправилась нежданно к Ане, которая лежит на своем диване в Большом дворце — у нее сейчас закупорка вен. Княжна Гедройц**** снова ее навестила и велела ей спокойно полежать в течение нескольких дней, — Аня ездила в город в автомобиле, чтобы повидать нашего Друга, и это утомило ее ногу. Я вернулась в 11 и пошла спать. По-видимому, инженер-механик***** близко. Мое лицо обвязано, так как немного ноют зубы и челюсть, глаза все еще болят и припухли, а сердце стремится к самому дорогому существу на земле, принадлежащему старому Солнышку*.
Наш Друг рад за тебя, что ты уехал. Он остался очень доволен вчерашним свиданием с тобой. Он постоянно опасается, что Bonheur, т.е. собственно галки, хотят, чтобы он** добился трона в П. либо в Галиции, что это их цель, но я сказала, чтоб она успокоила его, — совершенно немыслимо, чтобы ты когда-либо рискнул сделать подобное. Григорий ревниво любит тебя, и для него невыносимо, чтобы Н. играл какую-либо роль. Ксения ответила на мою телеграмму. Она очень огорчена, что не повидала тебя перед твоим отъездом, — ее поезд прибыл. Я ошиблась в расчете, Шуленбург*** не может быть здесь раньше завтрашнего дня или вечера, так что я встану только к выходу в церковь, немного попозже. Посылаю тебе шесть книжечек для раздачи Иванову, Рузскому или кому ты захочешь. Они составлены Ломаном****.
Эти солнечные дни избавят тебя от дождя и грязи.
Милый, я должна сейчас кончить и положить письмо за дверью, — его отправят в 81/2 ч. утра. Прощай, моя радость, мой солнечный свет, Ники, любимое мое сокровище. Бэби целует тебя, а женушка покрывает тебя нежнейшими поцелуями. Бог да благословит, сохранит и укрепит тебя. Я поцеловала и благословила твою подушку, — ты всегда в моих мыслях и молитвах. Аликс.
Поговори с Федоровым относительно врачей и студентов. Не забудь сказать генералам, чтобы они прекратили свои ссоры.
Привет всем; надеюсь, бедный старый Фредерикс поправляется и чувствует себя хорошо; следи, чтобы он был на легкой диете и не пил вина.
20 сентября 1914 года, Царское Село. Телеграмма, вслед
Все хорошо. Ножка меньше болит. Холодно. Скучаем. Ждем раненых. Вечером писали. Крепко целуем. Храни тебя Бог. Аликс.
21 сентября 1914 года, Новоборисов. Телеграмма
Сердечно благодарю за дорогое письмо. Надеюсь, спала и чувствуешь себя хорошо. Дождливая, холодная погода. В мыслях и молитвах с тобой и детьми. Как малютка? Нежно целую всех. Ники.
21 сентября 1914 года
, Ставка Верховного главнокомандующего*. Телеграмма
Слава Богу, даровавшему нам вчера победу у Сувалок и Мариамполя. Приехал благополучно. Только что отслужили благодарственный молебен в здешней военной церкви. Получил твою телеграмму. Чувствую себя отлично. Надеюсь, все здоровы. Крепко обнимаю. Ники.
21 сентября 1914 года, Царское Село. Телеграмма
Благодарю за обе телеграммы. Радуемся победе. Раненые прибыли. Мы работали с четырех до обеда. Механик приехал. Крепко обнимаем. Маленький весел. Храни тебя Бог. Всем привет. Аликс.
Мой любимый!
Какую радость мне доставили твои две телеграммы! — Благодарю Бога за это счастье — так отрадно было получить их после твоего прибытия на место. Бог да благословит твое присутствие там! Так хотелось бы знать, надеяться и верить, что ты увидишь войска. Бэби провел довольно беспокойную ночь, но без сильных болей. Я поднялась наверх, чтобы поцеловать его перед тем, как пойти в церковь, в 11 ч. Завтракала с девочками, лежа на диване, Беккер** приехала. Полежала часок около постели Алексея, а затем отправилась встречать поезд, — не очень много раненых. Два офицера из одного и того же полка и той же роты, а также один солдат умерли в пути. У них легкие очень пострадали от дождей и от перехода Немана вброд. Ни одного знакомого — все армейские полки. Один солдат вспомнил, что видел нас в Москве этим летом на Ходынке. Порецкому*** стало хуже на почве его больного сердца и переутомления, выглядит очень плохо, с осунувшимся лицом, выпученными глазами, с седой бородой. Бедняга производит тяжелое впечатление, но не ранен. Затем мы впятером отправились к Ане и здесь рано напились чаю. В 3 ч. зашли в наш маленький лазарет, чтобы надеть халаты, и оттуда в большой лазарет, где мы усердно поработали. В 5 1/2 ч. мне пришлось вернуться вместе с М. и А.**** для приема отряда с братом Маши Васильчиковой во главе. Затем обратно в маленький лазарет, где дети продолжали работать. Здесь я перевязала трех вновь прибывших офицеров и затем показала Карангозову***** и Жданову, как по настоящему играть в домино. После обеда и молитвы с Бэби пошла к Ане, у которой уже находились четыре девочки, и здесь повидала Н.П.*, обедавшего в этот день у нее. Он был рад повидать нас всех, так как он очень одинок и чувствует себя таким бесполезным. Княжна Гедройц приехала посмотреть Анину ногу, я забинтовала ее, а затем мы ее напоили чаем. Довезли Н.П. в автомобиле до станции. Ясная луна, холодная ночь. Бэби крепко спит. Вся маленькая семья целует тебя нежно. Ужасно скучаю по моему ангелу и, просыпаясь по ночам, стараюсь не шуметь, чтобы не разбудить тебя. Так грустно в церкви без тебя. Прощай, милый, молитвы мои и мысли следуют всюду за тобой. Благословляю и целую без конца каждое дорогое любимое местечко. Твоя старая Женушка.
Н.Гр.Орлова** едет завтра в Боровичи для двухдневного свидания с мужем. Аня узнала об этом от Сашки*** и из двух писем своего брата.
22 сентября 1914 года, Царское Село. Телеграмма
Благодарю за известия через Орлова****. Пишу каждый день. Чудная свежая погода. Были утром у обедни и в лазарете. Маленькому все лучше. Крепко целуем. Голова очень болит. Храни тебя Бог. Аликс.
22 сентября 1914 года, Ставка. Телеграмма
Сердечно благодарю за милое письмо. Сегодня мне представился генерал Рузский*****. Он рассказывал много интересного о знаменитых его боях в Галиции. Назначил его генерал-адъютантом. Здесь тихо и спокойно. Крепко всех обнимаю. Ники.
Моя возлюбленная душка женушка!
Сердечное спасибо за милое письмо, которое ты вручила моему посланному — я прочел его перед сном.
Какой это был ужас — расставаться с тобою и с дорогими детьми, хотя я и знал, что это ненадолго. Первую ночь я спал плохо, потому что паровозы грубо дергали поезд на каждой станции. На следующий день я прибыл сюда в 5 ч. 30 м., шел сильный дождь и было холодно. Николаша* встретил меня на станции Барановичи, а затем нас отвели в прелестный лес по соседству, недалеко (пять минут ходьбы) от его собственного поезда. Сосновый бор сильно напоминает лес в Спале, грунт песчаный и ничуть не сырой.
По прибытии в Ставку я отправился в большую деревянную церковь железнодорожной бригады, на краткий благодарственный молебен, отслуженный Шавельским. Здесь я видел Петюшу**, Кирилла*** и весь Николашин штаб. Кое-кто из этих господ обедал со мною, а вечером мне был сделан длинный и интересный доклад — Янушкевичем****, в их поезде, где, как я и предвидел, жара была страшная.
Я подумал о тебе — какое счастье, что тебя здесь нет!
Я настаивал на том, чтобы они изменили жизнь, которую они здесь ведут, по крайней мере при мне.
Нынче утром в 10 часов я присутствовал на обычном утреннем докладе, который Н. принимает в домике как раз перед своим поездом от своих двух главных помощников, Янушкевича и Данилова*****.
Оба они докладывают очень ясно и кратко. Они прочитывают доклады предыдущего дня, поступившие от командующих армиями, и испрашивают приказов и инструкций у Н. насчет предстоящих операций. Мы склонялись над огромными картами, испещренными синими и красными черточками, цифрами, датами и пр. По приезде домой я сообщу тебе краткую сводку всего этого. Перед самым завтраком прибыл генерал Рузский, бледный, худощавый человечек, с двумя новенькими Георгиями на груди. Я назначил его генерал-адъютантом за нашу последнюю победу на нашей прусской границе — первую с момента его назначения. После завтрака мы снимались группой со всем штабом Н. Утром после доклада я гулял пешком вокруг всей нашей Ставки и прошел кольцо часовых, а затем встретил караул лейб-казаков, выставленный далеко в лесу. Ночь они проводят в землянках — вполне тепло и уютно. Их задача — высматривать аэропланы. Чудесные улыбающиеся парни с вихрами волос, торчащими из-под шапок. Весь полк расквартирован очень близко к церкви в деревянных домиках железнодорожной бригады.
Генерал Иванов* уехал в Варшаву и вернется в Холм к среде, так что я пробуду здесь еще сутки, не меняя в остальном своей программы.
Отсюда я уеду завтра вечером и прибуду в Ровно в среду утром, там пробуду до часу дня и выеду в Холм, где буду около 6 часов вечера.
В четверг утром я буду в Белостоке, а если окажется возможным, то загляну без предупреждения в Осовец. Я только не уверен насчет Гродно, т.е. не знаю, буду ли там останавливаться, — боюсь, что все войска выступили оттуда к границе.
Я отлично прогулялся с Дрентельном** в лесу и по возвращении застал толстый пакет с твоим письмом и шестью книжками.
Горячее спасибо, любимая, за твои драгоценные строчки. Как интересна та часть письма Виктории, которую ты так мило копировала для меня!
О трениях, бывших между англичанами и французами в начале войны, я узнал несколько времени тому назад из телеграммы Бенкендорфа***. Оба здешние иностранные атташе уехали в Варшаву несколько дней тому назад, так что в этот раз я не увижу их.
Трудно поверить, что невдалеке отсюда свирепствует великая война, все здесь кажется таким мирным, спокойным. Здешняя жизнь скорей напоминает те старые дни, когда мы жили здесь во время маневров, с той единственной разницей, что в соседстве совсем нет войск.
Возлюбленная моя, часто-часто целую тебя, потому что теперь я очень свободен и имею время подумать о моей женушке и семействе. Странно, но это так.
Надеюсь, ты не страдаешь от этой мерзкой боли в челюсти и не переутомляешься. Дай Бог, чтобы моя крошечка была совсем здорова к моему возвращению!
Обнимаю тебя и нежно целую твое бесценное личико, а также всех дорогих детей. Благодарю девочек за их милые письма. Спокойной ночи, мое милое Солнышко. Всегда твой старый муженек Ники.
Передай мой привет Ане.
Два тома документов с комментариями историка Владимира Хрусталева в уникальном издательском проекте
18 апреля 2014Дневники Николая и Александры публикуются не впервые. Большевики печатали их в выдержках даже в 1920-е. Но очень скоро прекратили. Желаемого эффекта не получалось: вместо того, чтобы распалять ненависть, дневники располагали к свергнутому порядку. Следующий этап для царских архивов начался в конце 1980-х. С тех пор они издавались и переиздавались десятки раз. И все же преставляемое издание вызывает особый интерес: способ подачи материала здесь уникальный. И не только потому, что это "параллельные" дневники Николая и Александры. Редактор и составитель публикации Владимир Хрусталев называет ее биохроникой . Что это такое? Это когда запись, какая она ни есть, восстанавливается не домыслом комментатора, а такими же поденными заметками друзей, соратников, близких, современников - всех тех, кто был очевидцем описываемых событий. И весь этот материал не ранжируется на текст и примечания в конце тома, а представляется сплошь, одним полотном. В ход идут также выдержки из прессы и письма. Но предпочтительны официальные документы, где возможность разночтений минимальна. Например, правительственные телеграммы, заверенные описи, допросы членов Временного правительства, проводимые чекистами, записи в камер-фурьерских журналах, фиксирующие аудиенции, доклады и даже количество персон за царским столом. Наименее интересны для Хрусталева мемуары. Они могут быть неточны, и если уж к ним обращаться, то надо приводить не одни, а три, пять, десять - все, что есть. Это немыслимый труд, похожий на работу реставратора. Закопченное полотно расчищается и восстанавливается по миллиметру. Надо быть очень погруженным человеком, чтобы его исполнить. Владимир Хрусталев кадидат исторических наук, сотрудник ГАРФ (Государственный Архив Российской Федерации), занимается царской семьей с институтской скамьи, с конца 1970-х. Под его редакцией и при его участии в России, в Америке, в Европе вышли десятки изданий по этой теме. Он у нас "главный по Романовым". Недавно возникла еще одна специализация - история белого движения. Представляемый отрывок можно озаглавить "Один день Александры Федоровны и Николая Александровича". Это 2 марта 1917 года. Не всякую дату Хрусталев подает так полифонически, так сложно. Но это день отречения государя.
В минувшем году, помимо романовской серии, в издательстве "ПРОЗАиК" вышли неопубликованные дневники Твадовского за 1950-е гг., воспоминания Шаляпина, книга о Булгакове Лидии Яновской. В 2014 - мемуары Катаева, воспоминания о Блоке и Маяковском. Серия, посвященная Романовым, издана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати в рамках Федеральной целевой программы "Культура России". "ПРОЗАиК" основан в 2008 году сотрудниками издательства "Вагриус" с Алексеем Костаняном во главе.
Март 2 го. Четверг. Александра Федоровна
 Ц(арское) С(ело)
Ц(арское) С(ело)
(Написала письма) № 650-651 1 .
О(льга) - 37,7 о; Т(атьяна) - 38,9 о; Ал(ексей) - 36,1 о; Ан(астасия) - 37,2 о.
Аня (Вырубова) - 36,9 о. Трина (Шнейдер), Иза (Буксгевден).
Апраксин, Бенкенд(орф), Мясоедов-Иванов 2 .
Грамотин 3 , Соловьев 4 , Ресин.
Сидела наверху. Завтракала с М(арией) и Лили (Ден).
Молебен в детской (комнате), икона Зн(амения) Богор(одицы) из церкви 5 , и в комнате А(ни), сидели там. (Были) Ломан, мадам Дедюлина 6 , Бенкендорф.
3 ч(аса). О(льга) - 37,5 о; Т(атьяна) - 38,3 о; Ал(ексей) - 36,1 о; Ан(астасия) - 37,3 о.
А(ня) (Вырубова) - 36,2 о.
Прошла через подвал к солдатам 7 .
Т(етя) Ольга и Елена зашли на минутку 8 .
Чай наверху.
6 часов. Ольга - 35,6 о; Т(атьяна) - 39,5 о; Ан(астасия) - 37,3 о; Ал(ексей).
Сидела с детьми, обедала с ними и Лили (Ден) 9 .
Трина (Шнейдер).
9 часов. Ольга - 37,4 о; Т(атьяна) - 39,2 о; Ан(астасия) - 37,8 о; Ал(ексей) - 36,5.
Ходила к Изе (Буксгевден) и к Бенкендорфу в государственный кабинет.
Сидела с Аннушкой 10 .
Грамотин и Соловьев уехали с письмами 11 в? (так в дневнике. - В.Х.)
 Утром 12 пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор
Утром 12 пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор
по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде
таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно
что-либо сделать 13 , т.к. с ним борется соц.-дем. партия в лице рабочего
комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот
разговор в Ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2. ч.
пришли ответы от всех 14 . Суть та, что во имя спасения России
и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться
на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста 15 .
Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот.
я переговорил 16 и передал им подписанный и переделанный манифест 17 .
В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого 18 .
Кругом измена, и трусость, и обман!
Примечания
1. С момента выезда Николая II из Ставки в Царское Село многие письма и телеграммы не доходили до венценосных адресатов. В отчаянии
Александра Федоровна пишет письма № 650—651, очень похожие по содержанию, надеясь что хотя бы одно из них попадет супругу. Первое
письмо — наиболее полное по содержанию:
Мой любимый, бесценный ангел, свет моей жизни!
Мое сердце разрывается от мысли, что ты в полном одиночестве переживаешь
все эти муки и волнения, и мы ничего не знаем о тебе, а ты
не знаешь ничего о нас. Теперь я посылаю к тебе Соловьева и Грамотина,
даю каждому по письму и надеюсь, что, по крайней мере, хоть одно дойдет
до тебя. Я хотела послать аэроплан, но все люди исчезли. Молодые люди
расскажут тебе обо всем, так что мне нечего говорить тебе о положении
дел. Все отвратительно, и события развиваются с колоссальной быстротой.
Но я твердо верю — и ничто не поколеблет этой веры — все будет
хорошо. Особенно с тех пор, как я получила твою телеграмму сегодня
утром — первый луч солнца в этом болоте. Не знаю, где ты, я действовала,
наконец, через Ставку, ибо Родз<янко> притворялся, что не знает, почему
тебя задержали. Ясно, что они хотят не допустить тебя увидеться со мной
прежде, чем ты не подпишешь какую-нибудь бумагу, конституцию или еще
какой-нибудь ужас в этом роде. А ты один, не имея за собой армии, пойманный,
как мышь в западню, что ты можешь сделать? Это — величайшая
низость и подлость, неслыханная в истории, — задерживать своего Государя.
Теперь П<авел> [Александрович] не может попасть к тебе потому,
что Луга захвачена революционерами. Они остановили, захватили и разоружили
Бут<ырский> полк и испортили линию. Может быть, ты покажешься
войскам в Пскове и в других местах и соберешь их вокруг себя?
Если тебя принудят к уступкам, то ты ни в каком случае не обязан их
исполнять, потому что они были добыты недостойным способом. Павел,
получивший от меня страшнейшую головомойку за то, что ничего не делал
с гвардией, старается теперь работать изо всех сил и собирается нас
всех спасти благородным и безумным способом: он составил идиотский
манифест относительно конституции после войны и т.д. Борис [Владимирович]
уехал в Ставку. Я видела его утром, а вечером того же дня он уехал,
ссылаясь на спешный приказ из Ставки, — чистейшая паника. Георгий
[Михайлович] — в Гатчине, не дает о себе вестей и не приезжает. Кирилл,
Ксения, Миша не могут выбраться из города. Твое маленькое семейство
достойно своего отца. Я постепенно рассказала о положении старшим
и Корове (имеется в виду подруга и фрейлина императрицы, Анна Вырубова. — В.Х .) —
раньше они были слишком больны — страшно сильная корь, такой ужасный кашель.
Притворятся перед ними было очень мучительно. Бэби я сказала лишь половину.
У него 36,1 — очень веселый. Только все в отчаянии, что ты не
едешь. Лили [Ден] — ангел, неразлучна, спит в спальне
(Юлия фон Ден - подруга императрицы и ее детей. Жена Карла фон Дена, капитана 1-го ранга, последнего командира крейсера «Варяг» );
Мария со мной, мы обе в наших халатах и с повязанными головами.
Весь день принимаю. Гротен — совершенство. Ресин — спокоен.
Старая чета Бенк<ендорфов> ночует в доме, а Апр<аксин> пробирается сюда в штатском.
Я пользовалась Линевичем, но теперь боюсь, что и его задержали в городе.
Никто из наших не может приехать. Сестры, женщины, штатские, раненые проникают
к нам. Я могу телефонировать только в Зимний дворец. Ратаев ведет себя отлично.
Все мы бодры, не подавлены обстоятельствами, только мучаемся за тебя
и испытываем невыразимое унижение за тебя, святой
страдалец. Всемогущий Бог да поможет тебе!
Вчера ночью от 1 до 2. виделась с [генералом] Ивановым, который
теперь здесь сидит в своем поезде. Я думала, что он мог бы проехать к тебе
через Дно, но сможет ли он прорваться? Он надеялся провести твой поезд
за своим. Сожгли дом Фред<ерикса>, семья его в конно-гвард<ейском>
госпитале. Взяли Грюнвальда и Штакельберга. Я должна дать им для передачи
тебе бумагу, полученную нами от Н.П.[Саблина] через человека,
которого мы посылали в город. Он тоже не может выбраться — на учете.
Два течения — Дума и революционеры — две змеи, которые, как я надеюсь,
отгрызут друг другу головы — это спасло бы положение. Я чувствую,
что Бог что-нибудь сделает. Какое яркое солнце сегодня, только бы ты
был здесь! Одно плохо, что даже [Гвардейский] Экип<аж> покинул нас
сегодня вечером — они совершенно ничего не понимают, в них сидит какой-
то микроб. Эта бумага для Воейк<ова> — она оскорбит тебя так же,
как оскорбила и меня. Родз<янко> даже не упоминает о тебе. Но когда
узнают, что тебя не выпустили, войска придут в неистовство и восстанут
против всех. Они думают, что Дума хочет быть с тобой и за тебя. Что ж,
пускай они водворят порядок и покажут, что они [на] что-нибудь годятся,
но они зажгли слишком большой пожар, и как его теперь потушить?
Дети лежат спокойно в темноте. Бэби лежит с ними по нескольку часов
после завтрака и спит. Я проводила все время наверху и там же принимала.
Лифт не работает вот уже 4 дня, лопнула труба. Ольга — 37,7,
Т<атьяна> — 37,9 и ухо начинает болеть, Ан<астасия> — 37,2 — после
лекарства (ей дали от головной боли пирамидон). Бэби все еще спит.
Аня — 36,6. Их болезнь была очень тяжелой. Бог послал ее, конечно, на
благо. Все время они были молодцами. Я сейчас выйду поздороваться с
солдатами, которые теперь стоят перед домом. Не знаю, что писать, слишком
много впечатлений, слишком много надо рассказать. Сердце сильно
болит, но я не обращаю внимания, — настроение мое совершенно бодрое
и боевое. Только страшно больно за тебя. Надо кончить и приниматься за
другое письмо, на случай, если ты не получишь этого, и притом маленькое,
чтоб они смогли спрятать его в сапоге или, в случае чего, сжечь. Благослови
и сохрани тебя Бог, да пошлет он своих ангелов охранять тебя
и руководить тобой! Всегда неразлучны с тобою. Лили и Аня шлют привет.
Мы все целуем, целуем тебя без конца. Бог поможет, поможет, и твоя
слава вернется. Это — вершина несчастий! Какой ужас для союзников
и радость врагам! Я не могу ничего советовать, только будь, дорогой, самим
собой. Если придется покориться обстоятельствам, то Бог поможет
освободиться от них. О, мой святой страдалец! Всегда с тобой неразлучно
твоя Женушка.
Пусть этот образок, который я целовала, принесет тебе мои горячие
благословения, силу, помощь. Носи его (имеется в виду Распутина. — В.Х.)
крест, если даже и неудобно, ради моего спокойствия.
Не посылаю образок, без него им легче скомкать бумажку» (ГА РФ.
Ф. 601. Оп. 1. Д. 1151. Л. 500—500 об.; Красный архив. 1923. № 4. С. 214—
216; Переписка Николая и Александры Романовых. 1916—1917 гг. Т. 5.
Другое письмо № 651 более короткое и похожее по содержанию, но содержит ряд новых сведений:
Любимый, драгоценный, свет моей жизни!
Грамотин и Соловьев едут с двумя письмами. Надеюсь, что один из
них, по крайней мере, доберется до тебя, чтобы передать тебе и получить
от тебя вести. Больше всего сводит с ума то, что мы не вместе — зато
душой и сердцем больше чем когда-либо — ничто не может разлучить
нас, хотя они именно этого желают и потому-то не хотят допустить тебя
увидеться со мной, пока ты не подписал их бумаги об отв<етственном>
мин<истерстве> или конституции. Кошмарно то, что, не имея за собой армии,
ты, может быть, вынужден сделать это. Но такое обещание не будет
иметь никакой силы, когда власть будет снова в твоих руках. Они подло
поймали тебя, как мышь в западню, — вещь, неслыханная в истории.
Гнусность и унизительность этого убивают меня. Посланцы ясно обрисуют
тебе все положение, оно слишком сложно, чтобы писать о нем. Я даю
крохотные письма, которые можно легко сжечь или спрятать. Но всемогущий
Бог надо всем, он любит своего помазанника Божия и спасет тебя
и восстановит тебя в твоих правах! Вера моя в это безгранична и непоколебима,
и это поддерживает меня. Твоя маленькая семья достойна тебя,
держится молодцом и спокойно. Старшие и Корова знают теперь все. Нам
приходилось скрывать, пока они были слишком больны, сильный кашель
и отчаянно дурное самочувствие. Вот, сегодня утром — О<льга> 37,7,
Т<атьяна> — 38,9, Анаст<асия> захворала вчера ночью — 38, 9—37,2 (от
порошка, который дали ей от головной боли и который понизил температуру).
Бэби спит, вчера — 36,1, А<ня> — 36,4, тоже выздоравливает. Все
очень слабы и лежат в потеках. Не знать ничего о тебе — это было хуже
всего. Сегодня утром меня разбудила твоя телеграмма, и это бальзам для
души. Милый старик Иванов сидел у меня от 1 до 2. часов ночи и только
постепенно вполне уразумел положение. Гротен ведет себя прекрасно.
Рес<ин> очень хорошо, постоянно приходит ко мне по поводу всего. Мы
не можем добиться ни одного адъютанта — все они на учете. Это значит,
что они не могут отлучиться. Я послала Линевича в город, чтоб он привез
сюда приказ, — он вовсе не вернулся. Кирилл ошалел, я думаю: он ходил
к Думе с Экип<ажем> и стоит за них. Наши тоже оставили нас (Экипаж),
но офицеры вернулись, и я как раз посылаю за ними. Прости за дикое
письмо. Апр<аксин>, Рес<ин> все время отрывают, и у меня голова кругом
идет. Лили [Ден] все время с нами и так мила, спит наверху. Мария со
мной, Ал<ексей> и она шлют молитвы и привет и думают только о тебе.
Лили не желает вернуться к Тити, чтобы не покидать нас. Целую и благословляю
без конца. Бог над всеми — не покинет никогда своих. Твоя
Ты прочтешь все между строк и почувствуешь» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1.
Д. 1151. Л. 501—501 об.; Красный архив. 1923. № 4. С. 217; Переписка
Николая и Александры Романовых. 1916—1917 гг. Т. 5. С. 229—230).
2. С.В.Мясоедов-Иванов в дни Февральской революции командовал батальоном Гвардейского Экипажа в Царском Селе. Один из немногих остался верен присяге императору. Вынужден был с горечью сообщить Александре Федоровне об измене Гвардейского Экипажа.
А.И.Спиридович (жандармский генерал-майор. Руководил службой охраны Александровского дворца. - Прим. ред. ) описал в воспоминаниях: «Поведение в те дни великого князя Кирилла Владимировича, в частности его желание, чтобы роты Гвардейского Экипажа покинули Царское Село и ушли в Петроград, находили во дворце неодобрение. И вдруг всех удивило сообщение, что и последние
две роты экипажа (1-я и 3-я) ушли в Петроград. Одна из Александровки, другая — с павильона. Но все 17 офицеров батальона (за исключением молодого Кузьмина) во главе с командиром батальона Мясоедовым-Ивановым явились во дворец в распоряжение Ее Величества. Во дворец также было принесено и сдано знамя Экипажа, при котором находился мичман Черемшанский.
Вечером императрица вышла к офицерам, поблагодарила их за преданность и верную службу и высказала пожелание, чтобы офицеры вернулись в Петроград в свою часть. Офицеры исполнили желание Ее Величества и в следующие дни подверглись преследованиям, а некоторые и арестам» (Спиридович А.И. Великая война и февральская революция. Воспоминания. Минск, 2004. С. 658).
3. Офицер Гвардейского Экипажа, остался верен присяге и не покинул Александровский дворец.
4. По содержанию писем Александры Федоровны, молодой офицер Гвардейского Экипажа.
5 . Чудотворная икона Царицы Небесной.
6 . Вероятно, имеется в виду Елизавета Александровна Дедюлина, вдова генерал-адъютанта Свиты императора Владимира Александровича Дедюлина (1858—1913), бывшего петербургского градоначальника
(1905), командующего Корпусом жандармов (1905—1906), дворцового коменданта (1906—1913), принадлежавшего к ближайшему окружениюцарской семьи.
7 . Камердинер императрицы вспоминал об этих днях: «В один из первых дней революции (еще до приезда Государя) Родзянко телеграфировал графу Бенкендорфу о том, чтобы императрица и дети тотчас же уезжали из
дворца: грозит большая опасность. Граф Бенкендорф сообщил, что дети больны. Родзянко ответил:
— Уезжайте куда угодно, и поскорее. Опасность очень велика. Когда горит дом, и больных детей выносят.
Императрица позвала меня и рассказала об этом, прибавив в сильном беспокойстве:
— Никуда не поедем. Пусть делают что хотят, но я не уеду и детей губить не стану.
Вскоре после звонка Родзянко, как бы для защиты дворца, явились войска, в первую очередь Гвардейский Экипаж и стрелки Императорской фамилии. По желанию императрицы войска выстроились около дворца,
и императрица вместе со здоровой еще великой княжной Марией Николаевной стала обходить солдат. После обхода граф Апраксин сказал:
— Как Вы смелы, Ваше Величество. Как Вас встретили солдаты?
— Эти матросы нас знают. Они ведь и на “Штандарте” были, — ответила императрица.
На другой день, простудившись на морозе при осмотре войск, слегла в болезни и Мария Николаевна» (Волков А.А. Указ. соч. С. 66—67).
8. Ольга Константиновна (тетя Ольга) — великая княгиня.
Елена Петровна (Елена) (1884—1962) — княгиня, урожденная принцесса сербская, жена князя Иоанна Константиновича. В начале 1918 г. последовала за мужем в ссылку на Урал, в Екатеринбурге была арестована
чекистами и после казни мужа до конца 1918 г. находилась в пермской и московской тюрьмах. Только благодаря вмешательству иностранных дипломатов она была освобождена и в 1919 г. выехала за пределы России. Автор воспоминаний.
3 марта 1917 г. Александра Федоровна сообщала об этом визите мужу в письме № 652: «Тетя Ольга и Елена пришли справиться о новостях — очень мило с их стороны. В городе муж Даки (великий князь Кирилл Владимирович. — В.Х.) отвратительно себя ведет, хотя и притворяется, будто старается для монарха и родины. Ах, мой ангел, Бог над всеми — я живу только безграничной верой в Него! Он — наше единственное упование» (Переписка Николая и Александры Романовых. 1916—1917 гг. Т. 5. С. 231).
Интересны воспоминания Елены Петровны (жившей тогда в Павловске) о посещении с великой княгиней Ольгой Константиновной Государыни: «Царица оказала нам любезный прием. Она нам повторила об ее тревогах по поводу болезни ее детей. Она была в большом беспокойстве, так как находилась одна в этом обширном дворце, а отряды, которым была вверена ее охрана, поддаваясь революционным призывам из столицы, предались на сторону восставших и покидали свои посты. Затем она сказала нам, что не имеет никаких известий от царя. Императрица ему послала письмо с флигель-адъютантом Линевичем, которому было поручено поехать в автомобиле и передать письмо царю; но Линевича по дороге арестовали и заключили в тюрьму. Взволнованная, я не могла понять, как она, императрица Российская,находится в невозможности переписываться с царем. Боже! Как было возмутительно, что мы дошли до этого. Разговор продолжался еще некоторое время. Мужество царицы было полно достоинства. Хотя у нее были мрачные предчувствия о судьбе ее царственного супруга и боязнь за своих детей, императрица поразила нас своим хладнокровием. Это спокойствие могло быть свойственно английской крови, которая текла в ее жилах. В эти трагические часы она ни одного раза не обнаружила слабости, и как мать и супруга она пережила в эти минуты все, что могла чувствовать мать и женщина. Между тем она не забывала своего положения императрицы. Она жила царицей, умерла императрицей. В этот день я последний раз на этом свете в Царском Селе видела русскую царицу. Но ее лицо останется навсегда выгравированным в моей памяти, т.к. в подобные часы человеческие существа показываются таковыми, каковы они есть, а великие души проявляются действительно великими» (Савченко П. Государыня императрица Александра Федоровна. Джорданвилль, 1983. С. 91).
9. События этого дня в Александровском дворце Царского Села позднее нашли отражение в воспоминаниях Ю.А.Ден:
«Утром 2 (15) марта Государыня вошла в спальню великих княжон. На ней, что называется, лица не было. Я бросилась к ней, чтобы узнать, что случилось, и Ее Величество взволнованно прошептала:
— Лили, войска дезертировали!
Не найдясь, что ответить, я словно оцепенела. Наконец с трудом выговорила:
— Но почему они это сделали, Ваше Величество? Скажите, ради Бога, почему?
— Так приказал их командир, великий князь Кирилл Владимирович.
— Затем, не в силах сдержать свои чувства, с мукой в голосе, произнесла:
— Мои моряки, мои собственные моряки! Поверить не могу.
Но случилось именно так. Гвардейский Экипаж оставил дворец двумя группами — в час и пять утра. “Верных друзей”, “преданных подданных” с нами больше не было. Утром в Лиловой гостиной офицеры Гвардейского Экипажа был приняты Ее Величеством. Я присутствовала при этой встрече и узнала от одного из друзей моего мужа, что обязанность увезти Гвардейский Экипаж в Петроград была возложена на “без году неделя их благородие” лейтенанта Кузьмина. Офицеры были взбешены, в особенности старший из них, Мясоедов-Иванов, рослый, плотно сбитый моряк с добрыми глазами, в которых стояли слезы... Все как один они стали умолять Ее Величество позволить им остаться с нею. Переполненная чувствами, она благодарила офицеров, говоря им: — Да, да. Прошу Вас остаться. Для меня это был ужасный удар. Что-то скажет Его Величество, когда узнает о случившемся! Она вызвала к себе генерала Ресина и повелела ему включить в состав Сводно-пехотного полка оставшихся верными присяге офицеров. Генерал Ресин впоследствии признался мне, что испытал облегчение, когда трусоватые моряки из Гвардейского Экипажа покинули дворец, поскольку одному из подразделений было приказано занять позицию на колокольне, с которой хорошо просматривался дворец, и в случае если к определенному времени войска не присягнут Думе, открыть по дворцу огонь из двух огромных орудий. От Государя по-прежнему не было никаких известий, хотя Ее Величество посылала ему одну телеграмму за другой. По слухам, императорский поезд возвращался на Царскую Ставку, и многие в то время были уверены, что если Государю удастся добраться до нее, то войска встанут на его сторону. Чтобы получить какие-то известия, мы принялись обзванивать лазареты, и Государыня приняла разных лиц. Когда я выразила свое восхищение ее мужеством, Ее Величество ответила:
— Лили, мне нельзя сдаваться. Я твержу себе: “Нельзя сдаваться” — и это мне помогает.
Под вечер из Петрограда приехала с самыми дурными новостями Рита Хитрово (одна из молодых фрейлин и подруга Их Высочеств). После беседы с Ритой Государыня вызвала к себе двух офицеров Сводно-пехотного полка, которые вызвались доставить Государю письмо Ее Величества. Было условлено, что наутро они уедут из Царского Села. Государыня не переставала надеяться. Прошла ночь, но от императора по-прежнему не было никаких сообщений» (Ден Ю. Подлиная царица. Воспоминания близкой подруги императрицы Александры Федоровны. СПб., 1999, С. 137—138).
10 . Пьер Жильяр позднее вспоминал: «Весь день 15 марта (2 марта по старому стилю. — В.Х .) прошел в подавленном ожидании событий. Ночью, в 3. часа, доктор Боткин был вызван к телефону одним из членов Временного правительства, который справлялся о здоровье Алексея Николаевича. Как мы узнали впоследствии, по городу распространился слух о его смерти» (Швейцарец Пьер Жильяр, домашнее прозвище Жилик . Гувернер и преподаватель французского языка наследника Алексея Николаевича. Последовал вместе с царской семьей в ссылку в Тобольск. При переводе Романовых в Екатеринбург был отправлен в Тюмень. В эмиграции активно содействовал расследованию дела об убийстве царской семьи. В 1922 в Женеве женился на няне царский детей Тяглевой. Цитируемое издание - Трагическая судьба Николая II и царской семьи. М. 1992, С. 162).
11. Из писем Александры Федоровны видно, что молодые офицеры Гвардейского Экипажа Грамотин и Соловьев были направлены нарочными к Николаю II, о местонахождении которого в Александровском дворце никто не знал. В это время император находился в Штабе Северного фронта у генерала Н.В.Рузского в Пскове. Здесь 2 марта около полуночи им был подписан акт об отречении.
12. Император Николай II послал телеграмму 2 марта в 0 ч. 15 мин. из Пскова в Царское Село: «Ее Величеству. Прибыл сюда к обеду. Надеюсь, здоровье всех лучше и что скоро увидимся. Господь с вами. Крепко обнимаю. Ники» (Красный архив. 1923. № 4. С. 214; Переписка Николая и Александры Романовых. 1916—1917 гг. Т. 5. С. 226).
А.А.Мордвинов позднее в своих воспоминаниях делился впечатлениями о событиях этого утра: «Утром в четверг, 2 марта, проснувшись очень рано, я позвонил моему старику Лукзену и спросил у него, нет ли какихлибо указаний об отъезде и в котором часу отойдет наш поезд. Он мне сказал, что пока никаких распоряжений об этом отдано не было и что, по словам скорохода, мы вряд ли ранее вечера уедем из Пскова. Это меня встревожило, я быстро оделся и отправился пить утренний кофе в столовую. В ней находились уже Кира Нарышкин, Валя Долгорукий и профессор Федоров. Они, как и я, ничего не знали ни об отъезде, ни о переговорах Рузского и высказывали предположение, что, вероятно, прямой провод был испорчен и переговоры поэтому не могли состояться. Государь вышел позднее обыкновенного. Он был бледен и, как казалось по лицу, очень плохо спал, но был спокоен и приветлив, как всегда. Его Величество недолго оставался с нами в столовой и, сказав, что ожидает Рузского, удалился к себе» (Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев и документы. М. 1998. С. 101).
13. А.А.Мордвинов вспоминал: «Скоро появился и Рузский и был сейчас же принят Государем, мы же продолжали томиться в неизвестности почти до самого завтрака, когда, не помню от кого, мы узнали, что Рузскому после долгих попыток лишь поздно ночью удалось наконец соединиться с Родзянко. Родзянко сообщал, что не может приехать, так как присутствие его в Петрограде необходимо, так как царит всеобщая анархия и слушаются лишь его одного. Все министры арестованы и по его приказанию переведены в крепость. На уведомление о согласии Его Величества на сформирование ответственного министерства Родзянко отвечал, что “уже слишком поздно, так как время упущено. Эта мера могла бы улучшить положение два дня назад, а теперь уже ничто не может сдержать народные страсти”. Тогда же мы узнали, что по просьбе Родзянко Рузский испросил у Государя разрешение приостановить движение отрядов, назначавшихся на усмирение Петрограда, а генералу Иванову Государь послал телеграмму ничего не предпринимать до приезда Его Величества в Царское Село. После завтрака, к которому никто приглашен не был, распространился слух, что вместо Родзянко к нам для каких-то переговоров выезжают члены Думы Шульгин и Гучков, но прибудут в Псков только вечером» (Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев и документы. М. 1998. С. 101—102).
Те же события В.Н.Воейков излагал следующим образом: «Обстоятельства сложились так, что с момента прибытия императорского поездав Псков единственным связующим элементом Государя с армией был генерал Рузский и его ближайшие подчиненные. В 10 часов утра генерал Рузский был с докладом у Государя. На этот раз доклад длился около часа. Когда генерал Рузский выходил от Государя, Его Величество сказал ему, чтобы он подождал меня на платформе, а мне повелел с ним переговорить. Беседовали мы с Рузским, гуляя вдоль его поезда, в котором он и жил. Генерал Рузский сказал мне, что, по словам Родзянки, министры не принимали никаких мер к усмирению волнений, а потому во избежание кровопролития Родзянко был вынужденвсех их заключить в Петропавловскую крепость и назначить Временное правительство.
Впоследствии я узнал, что Родзянко и в этом вопросе удалился от истины, так как угодные Государственной думе министры ни одного часа арестованы не были, а если нечаянно, по самовольному распоряжению народившихся “товарищей” и попадали в Думу, то Родзянко самолично выходил к ним, принося извинения от лица русского народа, как это было с начальником Главного управления уделов генерал-адъютантом князем В.С.Кочубеем и многими другими. Что касается войск Петроградского гарнизона, то Родзянко сказал, что они вполне деморализованы, на усмирение народа не пойдут, а офицеров своих перебьют. В случае же добровольного согласия на переворот Родзянко ручался, что никаких ненужных жертв не будет. От себя генерал Рузский добавил, что та телеграмма, которую Государь ему накануне передал относительно ответственного министерства, настолько, по его мнению, запоздала, что он ее, после переговоров с Родзянко, даже не отправил и что сейчас единственный выход — отречение Государя, с каковым мнением согласны и все главнокомандующие войсками и командующие флотами.
Меня крайне поразила как осведомленность Рузского, так и спокойствие, с которым говорил о неисполнении служебного долга теми, в чьи руки Государь отдал такую большую долю своей власти и которые продались руководителям нашего революционного движения. Когда я вернулся к Его Величеству, меня поразило изменение, происшедшее за такой короткий период времени в выражении его лица. Казалось, что он после громадных переживаний отдался течению и покорился своей тяжелой судьбе. Мой разговор с Рузским не дал мне основания сказать что-либо в утешение Его Величеству, несмотря на самое горячее и искреннее желание это сделать.
Вскоре наступило время завтрака, после которого к Государю вновь явился с докладом генерал-адъютант Рузский. На этот раз он привел с собою генералов Данилова и Савича и сообщил о выезде из Петрограда Гучкова и Шульгина, так как Родзянко выехать не мог. Государь вышел к ним в салон-вагон и после очень короткого приема прошел с Рузским в свой вагон. По окончании доклада Рузского к Его Величеству зашел министр Двора граф Фредерикс» (Воейков В.Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта Государя императора Николая II. М. 1994, С. 174—175).
«Рузский пробыл у Его Величества около часа. Мы узнали, что в Псков должен днем приехать председатель Государственной думы М.В.Родзянко для свидания с Государем. Все с нетерпением стали ожидать этой встречи. Хотелось верить, что “авось” при личном свидании устранится вопрос об оставлении трона Государем императором, хотя мало верилось этой чуточной мечте. Дело в том, что за ночь Рузский, Родзянко, Алексеев сговорились, и теперь решался не основной вопрос оставления трона, но детали этого предательского решения. Составлялся в Ставке манифест, который должен был быть опубликован. Манифест этот вырабатывался в Ставке, и автором его являлся церемониймейстер Высочайшего Двора, директор политической канцелярии при Верховном главнокомандующем Базили, а редактировал этот акт генерал-адъютант Алексеев. Когда мы вернулись через день в Могилев, то мне передавали, что Базили, придя в штабную столовую утром 2 марта, рассказывал, что он всю ночь не спал и работал, составляя по поручению генерала Алексеева манифест об отречении от престола императора Николая II. А когда ему заметили (полковник Немченко передал мне это в Риме 7 мая нового стиля 1920 года), что это слишком серьезный исторический акт, чтобы его можно было составлять так наспех, то Базили ответил, что медлить было нельзя и советоваться было не с кем и что ему ночью приходилось несколько раз ходить из своей канцелярии к генералу Алексееву, который и установил окончательно текст манифеста и передал его в Псков генерал-адъютанту Рузскому для представления Государю императору.
Весь день 2 марта прошел в тяжелых ожиданиях окончательного решения величайших событий. Вся свита Государя и все сопровождавшие Его Величество переживали эти часы напряженно и в глубокой грусти и волнении. Мы обсуждали вопрос, как предотвратить назревающее событие. Прежде всего, мы мало верили, что великий князь Михаил Александрович примет престол. Некоторые говорили об этом сдержанно, только намеками, но генерал-адъютант Нилов определенно высказал: “Как можно этому верить. Ведь знал же этот предатель Алексеев, зачем едет Государь в Царское Село. Знали же все деятели и пособники происходящего переворота, что это будет 1 марта, и все-таки спустя одни сутки, т.е. за одно 28 февраля, уже спелись и сделали так, что Его Величеству приходится отрекаться от престола. Михаил Александрович — человек слабый и безвольный и вряд ли он останется на престоле. Эта измена давно подготовлялась и в Ставке, и в Петрограде. Думать теперь, что разными уступками можно помочь делу и спасти родину, по-моему, безумие. Давно идет ясная борьба за свержение Государя, огромная масонская партия захватила власть, и с ней можно только открыто бороться, а не входить в компромиссы”. Нилов говорил все это с убеждением, и я совершенно уверен, что К.Д. смело пошел бы лично на все решительные меры и, конечно, не постеснялся бы арестовать Рузского, если бы получил приказание Его Величества.
Кое-кто возражал Константину Дмитриевичу и выражал надежду, что Михаил Александрович останется, что, может быть, уладится дело. Но никто не выражал сомнения в необходимости конституционного строя, на который согласился ныне Государь. Князь В.А.Долгорукий, как всегда, понуро ходил по вагону, наклонив голову, и постоянно повторял, слегка грассируя: “Главное, всякий из нас должен исполнить свой долг перед Государем. Не нужно преследовать своих личных интересов, а беречь Его интересы”.
Граф Фредерикс узнал от генерала Рузского, что его дом сожгли, его жену, старую больную графиню, еле оттуда вытащили. Бедный старик был потрясен, но должен сказать, что свое глубокое горе он отодвинул на второй план. Все его мысли, все его чувства были около царя и тех событий, которые происходили теперь. Долгие часы граф ходил по коридору вагона, не имея сил от волнения сидеть. Он был тщательно одет, в старших орденах, с жалованными портретами трех императоров: Александра II, Александра III и Николая II. Он несколько раз говорил со мною.
“Государь страшно страдает, но ведь это такой человек, который никогда не покажет на людях свое горе. Государю глубоко грустно, что его считают помехой счастья России, что его нашли нужным просить оставить трон. Ведь Вы знаете, как он трудился за это время войны. Вы знаете, так как по службе обязаны были записывать ежедневно труды Его Величества, как плохо было на фронте осенью 1915 года и как твердо стоит наша армия сейчас накануне весеннего наступления. Вы знаете, что Государь сказал, что “для России я не только трон, но жизнь, все готов отдать”. И это он делает теперь. А его волнует мысль о семье, которая осталась в Царском одна, дети больны. Мне несколько раз говорил Государь: “Я так боюсь за семью и императрицу. У меня надежда только на графа Бенкендорфа”. Вы ведь знаете, как дружно живет наша царская семья. Государь беспокоится и о матери императрице Марии Федоровне, которая в Киеве”.
Граф был весь поглощен событиями. Часто бывал у Государя и принимал самое близкое участие во всех явлениях этих страшных дней. Надо сказать, что, несмотря на очень преклонный возраст графа Фредерикса, ему было 78 лет, он в дни серьезных событий вполне владел собой, и я искренно удивлялся его здравому суждению и особенно его всегда удивительному такту.
В.Н.Воейков в эти дни стремился быть бодрым, но, видимо, и его, как и других, волновали события. Никакой особой деятельности в пути Могилев—Вишера—Псков дворцовый комендант проявить не мог. В самом Пскове В.Н.Воейков тоже должен был остаться в стороне, так как его мало слушали, а Рузский относился к нему явно враждебно. У Государя он едва ли имел в эти тревожные часы значение, прежде всего потому, что Его Величество, по моему личному мнению, никогда не считал Воейкова за человека широкого государственного ума и не интересовался его указаниями и советами.
К.А.Нарышкин был задумчив, обычно молчалив и как-то стоял в стороне, мало участвуя в наших переговорах. Очень волновались и тревожились предстоящим будущим для себя граф Граббе и герцог Лейхтенбергский, особенно первый. Флигель-адъютант полковник Мордвинов, этот искренно-религиозный человек, бывший адъютант великого князя Михаила Александровича, от которого он ушел и сделан был флигель-адъютантом после брака великого князя с Брасовой, очень серьезно и вдумчиво относился к переживаемым явлениям. О Михаиле Александровиче, которому он был предан и любил его, он старался не говорить и не высказывал никаких предположений о готовящейся для него роли регента наследника цесаревича.
В эти исторические дни много души и сердца проявил лейб-хирург профессор Сергей Петрович Федоров. Это умный, талантливый, живой и преданный Государю и всей его семье человек. Он близок царскому дому, так как много лет лечит наследника, спас его от смерти, и Государь и императрица ценили Сергея Петровича и как превосходного врача и отличного человека. В эти дни переворота Сергей Петрович принимал близко к сердцу события.
2 марта Сергей Петрович днем пошел к Государю в вагон и говорил с ним, указывая на опасность оставления трона для России, говорил о наследнике и сказал, что Алексей Николаевич хотя и может прожить долго, но все же по науке он неизлечим. Разговор этот очень знаменателен, так как после того, как Государь узнал, что наследник неизлечим, Его Величество решил отказаться от престола не только за себя, но и за сына. По этому вопросу Государь сказал следующее:
— Мне и императрица тоже говорила, что у них в семье та болезнь, которою страдает Алексей, считается неизлечимой. В Гессенском доме болезнь эта идет по мужской линии. Я не могу при таких обстоятельствах оставить одного больного сына и расстаться с ним.
— Да, Ваше Величество, Алексей Николаевич может прожить долго, но его болезнь неизлечима, — ответил Сергей Петрович.
Затем разговор перешел на вопросы общего положения России после того, как Государь оставит царство.
— Я буду благодарить Бога, если Россия без меня будет счастлива, — сказал Государь. — Я останусь около своего сына и вместе с императрицей займусь его воспитанием, устраняясь от всякой политической жизни, но мне очень тяжело оставлять родину, Россию, — продолжал Его Величество.
— Да, — ответил Федоров, — но Вашему Величеству никогда не разрешат жить в России как бывшему императору.
— Я это сознаю, но неужели могут думать, что я буду принимать когда-либо участие в какой-либо политической деятельности после того, как оставлю трон. Надеюсь, Вы, Сергей Петрович, этому верите.
— Кто же в этом сомневается из тех, кто знает Ваше Величество, но есть много людей, способных на неправду ради личных интересов, опасаясь влияния бывшего царя.
После этого разговора Сергей Петрович вышел от Государя в слезах, совершенно расстроенный и огорченный. Федоров удивлялся на Государя, на его силу воли, на страшную выдержку и способность по внешности быть ровным, спокойным.
— Мы все сидели как в воду опущенные, пришибленные событиями, а Его Величество, который переживает все это несравненно ближе, нас же занимает разговорами, подбадривает, — передавал он свои впечатления о Государе за эти страшные дни.
— У Государя сильна очень вера, он действительно глубоко религиозный человек. Это и помогает ему переносить все то, что упало на его голову, — сказал я.
Вот в таких беседах, разговорах проходил у нас день 2 марта в Пскове… Трогателен рассказ камердинера Государя о том, как ночью с 1 на 2 марта у себя в отделении молился царь. “Его Величество всегда подолгу молятся у своей кровати, подолгу стоят на коленях, целуют все образки, что висят у них над головой, а тут и совсем продолжительно молились. Портрет наследника взяли, целовали его и, надо полагать, много слез в эту ночь пролили. Я заметил все это”. Сам рассказчик был совершенно расстроен, и слезы текли у него по щекам…
К 12 часам мы вернулись в поезд и узнали, что Родзянко не может приехать на свидание к Государю императору, а к вечеру в Псков прибудут член исполнительного комитета Думы В.В.Шульгин и военный и морской министр Временного правительства А.И.Гучков. Государь все время оставался у себя в вагоне после продолжительного разговора с Рузским. Чувствовалось, что решение оставить престол назревало» (Дубенский Д.Н. Как произошел переворот в России. Записки-дневники. Русская летопись. Париж, 1922 г. Кн. 3, С. 53—58).
Если судить по дневниковым записям княгини Е.А.Нарышкиной, то ходили в столице самые невероятные слухи: «2/15 марта. Наконец вечером записка от графини Нирод: Государь в Царском; подписал конституцию. Новое министерство составлено. Императрица в волнении: хотят объявить (дальше зачеркнуто) и Михаила регентом» (ГА РФ. Ф. 6501. Оп. 1. Д. 595. Л. 6 об.).
14 . Телеграмма генерала М.В.Алексеева извещала главнокомандующих фронтами о сложившейся ситуации: «Его Величество находится в Пскове, где изъявил свое согласие объявить Манифест идти навстречу народному желанию учредить ответственное перед палатами министерство, поручив председателю Государственной думы образовать кабинет. По сообщению этого решения Главнокомандующим Северным фронтом председателю Государственной думы последний, в разговоре по аппарату, в три с половиной часа второго сего марта, ответил, что появление такого Манифеста было бы своевременно 27 февраля; в настоящее же время этот акт является запоздалым, что ныне наступила одна из страшных революций; сдерживать народные страсти трудно; войска деморализованы. Председателю Государственной думы хотя пока верят, но он опасается, что сдерживать народные страсти будет невозможно. Что теперь династический вопрос поставлен ребром, и войну можно продолжать до победоносного конца лишь при исполнении предъявленных требований относительно отречения от Престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича. Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания, основанные на том, что существование армии и работа железных дорог находятся фактически в руках Петроградского Временного правительства. Необходимо спасти действующую армию от развала; продолжать до конца борьбу с внешним врагом; спасти независимость России и судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане, хотя бы и ценой дорогих уступок. Если Вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу Его Величеству через Главкосева, известив меня. Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России и что между высшими начальниками действующей армии нужно установить единство мысли и целей и спасти армию от колебаний и возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, и решение относительно внутренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится при решении сверху.
Алексеев.
2 марта 1917 года, 10 часов 15 минут. [№] 1872» (Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев и документы. М. 1998. С. 237).
Вскоре в Пскове была получена телеграмма начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала М.В.Алексеева на имя императора, где сообщалось:
«Всеподданнейше представляю Вашему Императорскому Величеству полученные мною на имя Вашего Императорского Величества телеграммы:
От великого князя Николая Николаевича: “Генерал-адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России и спасения династии, вызывает принятие сверхмеры. Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необходимым коленопреклонно молить Ваше Императорское Величество спасти Россию и Вашего наследника, зная чувство святой любви Вашей к России и к нему. Осенив себя крестным знамением, передайте ему Ваше наследие. Другого выхода нет. Как никогда в жизни, с особо горячею молитвою молю Бога подкрепить и направить Вас.
Генерал-адъютант Николай”.
От генерал-адъютанта Брусилова:
“Прошу Вас доложить Государю Императору мою всеподданнейшую просьбу, основанную на моей преданности и любви к родине и царскому Престолу, что в данную минуту единственный исход может спасти
положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, без чего Россия пропадет, — отказаться от Престола в пользу Государя Наследника цесаревича при регентстве великого князя Михаила Александровича. Другого исхода нет. Но необходимо спешить, дабы разгоревшийся и принявший большие размеры народный пожар был скорее потушен, иначе повлечет за собой неисчислимое катастрофическое последствие. Этим актом будет спасена и сама династия в лице законного наследника.
Генерал-адъютант Брусилов”.
От генерал-адъютанта Эверта:
“Ваше Императорское Величество. Начальник штаба Вашего Величества передал мне обстановку, создавшуюся в Петрограде, Царском Селе, Балтийском море и Москве, и результат переговоров генерал-адъютанта
Рузского с председателем Государственной думы. Ваше Величество. На армию, в настоящем ее составе, рассчитывать при подавлении внутренних беспорядков нельзя. Ее можно удержать лишь именем спасения России
от несомненного порабощения злейшим врагом родины при невозможности вести дальнейшую борьбу. Я принимаю все меры к тому, чтобы сведения о настоящем положении дел в столицах не проникали в армию,
дабы оберечь ее от несомненных волнений. Средств прекратить революцию в столицах нет никаких. Необходимо немедленное решение, которое могло бы привести к прекращению беспорядков и к сохранению армии
для борьбы против врага. При создавшейся обстановке, не находя иного исхода, безгранично преданный Вашему Величеству верноподданный умоляет Ваше Величество, во имя спасения родины и династии, принять
решение, согласованное с заявлением председателя Государственной думы, выраженным им генерал-адъютанту Рузскому, как единственно, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов
Генерал-адъютант Эверт”.
Всеподданнейше докладывая эти телеграммы Вашему Императорскому Величеству, умоляю безотлагательно принять решение, которое Господь Бог внушит Вам. Промедление грозит гибелью России. Пока армию
удается спасти от проникновения болезни, охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города. Но ручаться за дальнейшее сохранение высшей дисциплины нельзя. Прикосновение же армии к делу внутренней
политики будет знаменовать неизбежный конец войны, позор России, развал ее. Ваше Императорское Величество горячо любите родину и ради ее целости, независимости, ради достижения победы соизволите
принять решение, которое может дать мирный и благополучный исход из создавшегося более чем тяжкого положения. Ожидаю повелений. 2 марта 1917 г. [№] 1878. Генерал-адъютант Алексеев» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2102. Л. 1—1 об., 2).
Следует отметить, что генералом М.В.Алексеевым чуть ранее от имени царя была направлена телеграмма командующим фронтами генералу А.Е.Эверту и генералу А.А.Брусилову:
«Государь император приказал вернуть войска, направленные к Петрограду с запфронта, и отменить посылку войск с Юго-Западного фронта. 2 марта 1917 года. [№] 1877. Алексеев» (Красный архив. 1927. № 2 (21).С. 64).
Любопытен еще один факт, который предшествовал появлению вышеприведенных телеграмм командующих фронтами. Так, например, командующий Юго-Западным фронтом А.А.Брусилов позднее объяснял в своих воспоминаниях:
«Я получал из Ставки подробные телеграммы, сообщавшие о ходе восстания и, наконец, был вызван к прямому проводу Алексеевым, который сообщил мне, что вновь образовавшееся Временное правительство ему объявило, что в случае отказа Николая II отречься от престола оно грозит прервать подвоз продовольствия и боевых припасов в армию (у нас же никаких запасов не было); поэтому Алексеев просил меня и всех главнокомандующих телеграфировать царю просьбу об отречении. Я ему ответил, что со своей стороны считаю эту меру необходимой и немедленно исполню. Родзянко тоже прислал мне срочную телеграмму такого же содержания, на которую я ответил также утвердительно. Не имея под рукой моих документов, не могу привести точно текст этих телеграмм и разговоров по прямому проводу и моих ответов, но могу лишь утвердительно сказать, что смысл их верен и мои ответы также. Помню лишь твердо, что я ответил Родзянко, что мой долг перед родиной и царем я выполню до конца, и тогда же послал телеграмму царю, в которой просил его отказаться от престола» (Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2001. С. 205).
15 . В книге В.М.Алексеевой-Борель (дочь генерала М.В.Алексеева) имеются строки, которые показывают историю составления проекта этого манифеста: «Составление манифеста об отречении пришлось взять на себя гражданским канцеляриям в Ставке. Призвав к себе начальника дипломатической канцелярии Базили, генерал Алексеев поручил ему составить этот манифест.
Базили в своих воспоминаниях писал:
“Алексеев тогда попросил меня скицировать акт об отречении. — Вложите всю душу в него, — прибавил он. Я тогда занялся в своей канцелярии этой работой, час спустя я вернулся со следующим текстом:
«Во время великой борьбы с внешним врагом, который уже в течение трех лет стремится овладеть нашей родной страной, по воле Божьей, послано России новое тяжелое испытание. Внутренние беспорядки, которые начались среди народа, угрожают ужасными последствиями судьбе России вследствие тяжелой войны. Судьба России, честь ее героической Армии, благосостояние ее народа, все будущее нашего излюбленного Отечества требуют, чтобы война была доведена до победного ее завершения, невзирая ни на что. Жестокий враг прилагает свои последние усилия, и время уже подошло, когда наша Доблестная Армия вместе со своими славными союзниками будут в состоянии окончательно сокрушить врага. В эти решительные дни жизни России Нам казалось Нашим долгом помочь Нашему народу сильнее объединиться и соединить все силы нации для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной думой, Мы считаем правильным отказаться от престола Государства Российского и сложить с Себя Верховную Власть.
В согласии с порядком, установленным Основными Законами, Мы передаем Наше наследие Нашему возлюбленному сыну Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу и благословляем Его взойти на Престол Государства Российского, Мы уполномочиваем Нашего брата Великого Князя Михаила Александровича взять на себя долг регента Государства, пока Наш сын не станет совершеннолетним, править Государством, в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ней — повиновением Царю в эту годовщину народных испытаний и помочь Ему, вместе с народными представителями, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».
Этот текст был одобрен генералом Алексеевым, а также и генералом Лукомским и великим князем Сергеем Михайловичем, двоюродным братом Государя. Я после этого отнес это главному телеграфисту, чтобы послать в Псков, и в тот же вечер этот текст был передан около половины восьмого”...
Судя по мемуарам Базили, он лично составил этот документ. По воспоминаниям же полковника Сергеевского, как и слышанное мною тогда же в Ставке, Базили взял себе помощников — военного юриста Брагина и начальника Оперативного Отделения полковника Барановского. Задача была трудная, так как основные законы Империи такого положения, как отречение царствующего императора, не предвидели.
Начальник службы связи полковник Сергеевский свидетельствовал, что этот текст манифеста в 1.30 минут дня 2 марта был передан в Псков для доклада Государю. В 3 часа дня Псков сообщил, что Государь оставил присланный текст акта у себя и окончательное решение примет после беседы с двумя лицами, выехавшими к нему из столицы и ожидаемыми в Пскове около 18 часов. Этими лицами были Шульгин и Гучков, приехавшие в Псков лишь после 10 часов вечера» (Алексеева-Борель В. Сорок лет в рядах русской императорской армии: Генерал М.В.Алексеев. СПб., 2000. С. 488—489).
Д.Н.Дубенский продолжил рассказ об отречении Николая II, происшедшем в тот день в Пскове: «Граф Фредерикс бывал часто у Его Величества и после завтрака, т.е. часов около 3-х, вошел в вагон, где мы все находились, и упавшим голосом сказал по-французски: “Все кончено, Государь отказался от престола за себя и наследника Алексея Николаевича в пользу брата своего великого князя Михаила Александровича и послал через Рузского об этом телеграмму”. Когда мы услыхали все это, то невольный ужас охватил нас, и мы громко в один голос воскликнули, обращаясь к Воейкову: “Владимир Николаевич, ступайте сейчас, сию минуту к Его Величеству и просите его остановить, вернуть эту телеграмму”. Дворцовый комендант побежал в вагон Государя. Через очень короткое время генерал Воейков вернулся и сказал генералу Нарышкину, чтобы он немедленно шел к генерал-адъютанту Рузскому и по повелению Его Величества потребовал телеграмму назад для возвращения Государю. Нарышкин тотчас же вышел из вагона и направился к генералу Рузскому (его вагон стоял на соседнем пути) исполнять Высочайшее повеление. Прошло около получаса, и К.А.Нарышкин вернулся от Рузского, сказав, что Рузский телеграмму не возвратил и сообщил, что лично даст по этому поводу объяснение Государю. Это был новый удар, новый решительный шаг со стороны Рузского для приведения в исполнение намеченных деяний по свержению императора Николая II с трона» (Дубенский Д.Н. Указ. соч. С. 58).
А.А.Мордвинов уточнил некоторые детали происходивших событий: «Я лично мог предположить все что угодно, но отречение от престола столь внезапное, ничем пока не вызванное, не задуманное только, а уж исполненное, показалось такой кричащей несообразностью, что в словах преклонного старика Фредерикса в первое мгновение почудилось или старческое слабоумие, или явная путаница.
“Как, когда, что такое да почему?” — послышались возбужденные вопросы. Граф Фредерикс на всю эту бурю восклицаний, пожимая сам недоуменно плечами, ответил только: “Государь получил телеграммы от главнокомандующих… и сказал, что раз войска этого хотят, то не хочет никому мешать”.
“Какие войска хотят? Что такое? Ну, а Вы что же, граф, что Вы-то ответили Его Величеству на это?” Опять безнадежное пожимание плечами: “Что я мог изменить? Государь сказал, что он решил это уже раньше и долго об этом думал”.
“Не может этого быть, ведь у нас война. Отречься так внезапно, здесь, в вагоне, и перед кем и от чего, да верно ли это, нет ли тут какого-либо недоразумения, граф?” — посыпались снова возбужденные возражения со всех сторон, смешанные и у меня с надеждой на путаницу и на возможность еще отсрочить только что принятое решение. Но, взглянув на лицо Фредерикса, я почувствовал, что путаницы нет, что он говорит серьезно, отдавая себе отчет во всем, так как и он сам был глубоко взволнован и руки его дрожали.
“Государь уже подписал две телеграммы, — ответил Фредерикс, — одну Родзянко, уведомляя его о своем отречении в пользу наследника при регентстве Михаила Александровича и оставляя Алексея Николаевича при себе до совершеннолетия, а другую о том же Алексееву в Ставку, назначая вместо себя Верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича…” “Эти телеграммы у Вас, граф, Вы еще их не отправили?” — вырвалось у нас с новой, воскресавшей надеждой.
“Телеграммы взял у Государя Рузский”, — с какой-то, как мне показалось, безнадежностью ответил Фредерикс и, чтобы скрыть свое волнение, отвернулся и прошел в свое купе. Бедный старик, по его искренним словам, нежно любивший Государя, “как сына”, заперся в своем отделении, а мы все продолжали стоять в изумлении, отказываясь верить в неотвратимость всего нахлынувшего. Кто-то из нас прервал наконец молчание, кажется, это был Граббе, и, отвечая нашим общим мыслям, сказал: “Ах, напрасно эти телеграммы Государь отдал Рузскому, это, конечно, все произошло не без интриг; он-то уж их, наверно, не задержит и поспешит отправить; а может быть, Шульгин и Гучков, которые скоро должны приехать, и сумеют отговорить и иначе повернуть дело. Ведь мы не знаем, что им поручено и что делается там у них; пойдемте сейчас к графу, чтобы он испросил у Государя разрешение потребовать эти телеграммы от Рузского и не посылать их хотя бы до приезда Шульгина”.
Мы все пошли к Фредериксу и убедили его. Он немедленно пошел к Государю и через несколько минут вернулся обратно, сказав, что Его Величество приказал сейчас же взять телеграммы от Рузского и передать ему; что они будут посланы только после приезда членов Думы. Как я уже сказал, к генералу Рузскому мы никогда не чувствовали особой симпатии, а с первой минуты нашего прибытия в Псков относились к нему с каким-то инстинктивным недоверием и опаской, подозревая его в желании сыграть видную роль в развертывающихся событиях. Поэтому мы просили Нарышкина, которому было поручено отобрать телеграммы, чтобы он ни на какие доводы Рузского не соглашался и если бы телеграммы начали уже передавать, то снял бы их немедленно с аппарата. Нарышкин отправился и скоро вернулся с пустыми руками. Он сообщил, что одну телеграмму, Родзянко, хотя и начали уже отправлять, но начальник телеграфа обещал попытаться ее задержать, а другую — в Ставку — не отправлять но что Рузский их ему не отдал и сам пошел к Государю, чтобы испросить разрешение удержать эти телеграммы у себя, и обещал их не отправлять до приезда Гучкова и Шульгина. Уходя от Его Величества, Рузский сказал скороходам, чтобы прибывающих депутатов направили предварительно к нему, а затем уже допустили их до приема Государем. Это обстоятельство взволновало нас необычайно; в желании Рузского настоять на отречении и не выпускать этого дела из своих рук не было уже сомнений. Мы вновь пошли к Фредериксу просить настоять перед Его Величеством о возвращении этих телеграмм, а профессор Федоров по собственной инициативе, как врач, направился к Государю. Было около четырех часов дня, когда Сергей Петрович вернулся обратно в свое купе, где большинство из нас его ожидало. Он нам сказал, что вышла перемена и что все равно прежних телеграмм теперь нельзя посылать. “Я во время разговора о поразившем всех событии, — пояснил он, — спросил у Государя: «Разве, Ваше Величество, Вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят при Вас и после отречения?» — «А отчего же нет? — с некоторым удивлением спросил Государь. — Он еще ребенок и, естественно, должен оставаться в своей семье, пока не станет взрослым. До тех пор будет регентом Михаил Александрович». «Нет, Ваше Величество, — ответил Федоров, — это вряд ли будет возможно, и по всему видно, что надеяться на это Вам совершенно нельзя»”. Государь, по словам Федорова, немного задумался и спросил: “Скажите, Сергей Петрович, откровенно, как Вы находите, действительно ли болезнь Алексея такая неизлечимая?” “Ваше Величество, наука нам говорит, что эта болезнь неизлечима, но многие доживают при ней до значительного возраста, хотя здоровье Алексея Николаевича и будет всегда зависеть от всякой случайности”. “Когда так, — как бы про себя сказал Государь, — то я не могу расстаться с Алексеем. Это было бы уж сверх моих сил… К тому же, раз его здоровье не позволяет, то я буду иметь право оставить его при себе…” Кажется, на этих словах рассказа, потому что других я не запомнил, вошел к нам граф Фредерикс, сходивший во время нашего разговора к Государю, и сообщил, что Его Величество приказал потребовать от Рузского задержанные им обе телеграммы, не упоминая ему, для какой именно это цели.
Нарышкин отправился вновь и на этот раз принес их обратно, кажется, вместе с какой-то другой телеграммой о новых ужасах, творящихся в Петрограде, которую уже одновременно дал Рузский для доклада Его Величеству. Я не помню, что было в этой телеграмме, так как вошедший скороход доложил, что Государь, после короткой прогулки, уже вернулся в столовую для дневного чая, и мы все направились туда. С непередаваемым тягостным чувством, облегчавшимся все же мыслью о возможности еще и другого решения, входил я в столовую. Мне было и физически больно увидеть моего любимого Государя после нравственной пытки, вызвавшей его решение, но я и надеялся, что обычная сдержанность и ничтожные разговоры о посторонних, столь “никчемных” теперь вещах прорвутся наконец в эти трагические минуты чем-нибудь горячим, искренним, заботливым, дающим возможность сообща обсудить положение; что теперь в столовой, когда никого, кроме ближайшей свиты, не было, Государь невольно и сам упомянет об обстоятельствах, вызвавших его ужасное решение. Эти подробности нам были совершенно не известны и так поэтому непонятны. Мы к ним были не только не подготовлены, но, конечно, не могли и догадываться, и только, кажется, граф Фредерикс и В.Н.Воейков были более или менее осведомлены о переговорах Рузского и о последних телеграммах, полученных через Рузского и генерала Алексеева от командующих фронтами... Но, войдя в столовую и сев на незанятое место, с краю стола, я сейчас же почувствовал, что и этот час нашего обычного общения с Государем пройдет точно так же, как и подобные часы минувших “обыкновенных” дней...
Шел самый незначительный разговор, прерывавшийся на этот раз только более продолжительными паузами... Рядом была буфетная, кругом ходили лакеи, подавая чай, и, может быть, их присутствие и заставляло всех быть такими же “обычными” по наружности, как всегда. Государь сидел спокойный, ровный, поддерживал разговор, и только по его глазам, печальным, задумчивым, как-то сосредоточенными, да по нервному движению, когда он доставал папиросу, можно было чувствовать, насколько тяжело у него на душе... Ни одного слова, ни одного намека на то, что всех нас мучило, не было, да, пожалуй, и не могло быть произнесено. Такая обстановка заставляла лишь уходить в себя, несправедливо негодовать на других: “Зачем говорят о пустяках?” и мучительно думать: “Когда же наконец кончится это сидение за чаем?” Оно наконец кончилось. Государь встал и удалился к себе в вагон. Проходя за ним последним по коридору, мимо открытой двери кабинета, куда вошел Государь, меня так и потянуло войти туда, но шедший впереди граф Фредерикс или Воейков уже вошел раньше с каким-то докладом. Мы все собрались опять вместе в купе адмирала Нилова, и В.Н.Воейков был также с нами. Он был, как чувствовалось, не менее нас удручен, но умел лучше нас скрывать свои волнения и переживания. От него мы наконец узнали, что Родзянко ночью в переговорах с Рузским просил отменить присылку войск, так как “это бесполезно, вызовет лишнее кровопролитие, а войска все равно против народа драться не будут и своих офицеров перебьют». Родзянко утверждал, что единственный выход спасти династию — это добровольное отречение Государя от престола в пользу наследника при регентстве великого князя Михаила Александровича. Генерал Алексеев также телеграфировал, что и по его мнению создавшаяся обстановка не допускает иного решения, и что каждая минута дорога, и он умоляет Государя, ради любви к родине, принять решение, “которое может дать мирный и благополучный исход”. Появились, не помню кем принесенные, несчастные телеграммы Брусилова, Эверта, Сахарова и поступившая уже вечером телеграмма адмирала Непенина. Телеграммы великого князя Николая Николаевича с Кавказа при этом не было. Она, кажется, оставалась у Его Величества, но, как нам кто-то сказал, и великий князь в сильных выражениях умолял Государя принять это же решение. Тогда же впервые прочитали мы и копии телеграмм, переданных еще днем Рузскому и возвращенных последним Нарышкину.
Вот их текст:
“Председателю Государственной думы. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем чтобы оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего великого князя Михаила Александровича. Николай”.
Наштаверх. Ставка.
“Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай”.
Телеграммы эти говорят сами за себя. Каждый, соответственно своему пониманию и настроению, своему уму и сердцу, сможет сделать из них и собственные выводы… В подобном же настроении был, видимо, и генерал Дубенский, который находился не в нашем поезде и до которого весть об отречении дошла значительно позднее, чем до нас. Он появился в нашем вагоне очень растерянный, взволнованный и все как-то задумчиво и недоумевающе повторял: “Как же это так, вдруг отречься… не спросить войска, народ… и даже не попытаться поехать к гвардии… Тут, в Пскове, говорят за всю страну, а может, она и не захочет…” Эти отрывочные рассуждения Дубенского невольно совпали с беспорядочно проносившимися и у меня мыслями» (Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев и документы. Л. 1927, С. 102—107).
16. В воспоминаниях Д.Н. Дубенского читаем:
«Часов около 10 вечера флигель-адъютант полковник Мордвинов, полковник герцог Лейхтенбергский и я вышли на платформу, с которой должен был прибыть депутатский поезд. Через несколько минут он подошел. Из ярко освещенного вагона салона выскочили два солдата с красными бантами и винтовками и стали по бокам входной лестницы вагона. По-видимому, это были не солдаты, а, вероятно, рабочие в солдатской форме, так неумело они держали ружья, отдавая честь “депутатам”, так не похожи были даже на молодых солдат. Затем из вагона стали спускаться сначала Гучков, за ним Шульгин, оба в зимних пальто. Гучков обратился к нам с вопросом, как пройти к генералу Рузскому, но ему, кажется, полковник Мордвинов сказал, что им надлежит следовать прямо в вагон Его Величества.
Мы все двинулись к царскому поезду, который находился тут же, шагах в 15—20. Впереди шел, наклонив голову и косолапо ступая, Гучков, за ним, подняв голову вверх, в котиковой шапочке Шульгин. Они поднялись в вагон Государя, разделись и прошли в салон» (Д у бенский Д.Н. Указ. соч. С. 60).
А.А. Мордвинов в своих воспоминаниях уточнил и описал детали встречи депутатов Государственной думы со свитой императора:
«Прошло несколько минут, когда я увидел приближающиеся огни локомотива. Поезд шел быстро и состоял не более как из одного-двух вагонов. Он еще не остановился окончательно, как я вошел на заднюю площадку последнего классного вагона, открыл дверь и очутился в обширном темном купе, слабо освещенном лишь мерцавшим огарком свечи. Я с трудом рассмотрел в темноте две стоявшие у дальней стены фигуры, догадываясь, кто из них должен быть Гучков, кто — Шульгин. Я не знал ни того, ни другого, но почему- то решил, что тот, кто моложе и стройнее, должен быть Шульгин, и, обращаясь к нему сказал: “Его Величество вас ожидает и изволит тотчас же принять”. Оба были, видимо, очень подавлены, волновались, руки их дрожали, когда они здоровались со мною, и оба имели не столько усталый, сколько растерянный вид. Они были очень смущены и просили дать им возможность привести себя в порядок после пути, но я им ответил, что это неудобно, и мы сейчас же направились к выходу.
— Что делается в Петрограде? — спросил я их.
Ответил Шульгин. Гучков все время молчал и, как в вагоне, так и идя до императорского поезда, держал голову низко опущенною.
— В Петрограде творится что-то невообразимое, — говорил, волнуясь, Шульгин. — Мы находимся всецело в их руках, и нас, наверно, арестуют, когда мы вернемся.
“Хороши же вы, народные избранники, облеченные всеобщим доверием, — как сейчас помню, нехорошо шевельнулось в душе при этих словах. — Не прошло и двух дней, как Вам приходится уже дрожать перед этим «народом»; хорош и сам «народ», так относящийся к своим избранникам”.
Я вышел первым из вагона и увидел на отдаленном конце платформы какого-то офицера, вероятно, из штаба Рузского, спешно направлявшегося в нашу сторону. Он увидел нашу группу и тотчас же повернул назад.
— Что же Вы теперь думаете делать, с каким поручением приехали, на что надеетесь? — спросил я, волнуясь, шедшего рядом Шульгина.
Он с какою-то смутившею меня не то неопределенностью, не то безнадежностью от собственного бессилия, и как-то тоскливо и смущенно понизив голос, почти шепотом сказал:
— Знаете, мы надеемся только на то, что, быть может, Государь нам поможет…
— В чем поможет? — вырвалось у меня, но получить ответа я не успел.
Мы уже стояли на площадке вагона-столовой, и Гучков и Шульгин уже нервно снимали свои шубы. Их сейчас же провел скороход в салон, где назначен прием и где находился уже граф Фредерикс. Бедный старик, волнуясь за свою семью, спросил, здороваясь, Гучкова, что делается в Петрограде, и тот “успокоил” его самым жестоким образом: “В Петрограде стало спокойнее, граф, но ваш дом на Почтамтской совершенно разгромлен, а что сталось с Вашей семьей — неизвестно”. Вместе с графом Фредериксом в салоне находился и Нарышкин, которому, как начальнику Военно-походной канцелярии, было поручено присутствовать при приеме и записывать все происходящее во избежание могущих потом последовать разных выдумок и неточностей. Нарышкин еще ранее, до приезда депутатов, предложил мне разделить с ним эту обязанность, но мысль присутствовать при таком приеме лишь молчаливым свидетелем показалась мне почему-то настолько невыносимой, что я тогда под каким-то предлогом отказался от этого поручения. Теперь я об этом отказе сожалел, но было поздно.
В коридоре вагона Государя, куда я прошел, я встретил генерала Воейкова. Он доложил Его Величеству о прибытии депутатов, и через некоторое время в кавказской казачьей форме, спокойный и ровный, Государь прошел своей обычной неторопливой походкой в соседний вагон, и двери салона закрылись... Во время этого разговора мы увидели Рузского, торопливо подымавшегося на входную площадку салона, и я подошел к нему узнать, чем вызван его приход. Рузский был очень раздражен и, предупреждая мой вопрос, обращаясь в пространство, с нервной резкостью начал совершенно по-начальнически кому-то выговаривать: “Всегда будет путаница, когда не исполняют приказаний. Ведь было ясно сказано направить депутацию раньше ко мне. Отчего этого не сделали, вечно не слушаются…” Я хотел его предупредить, что Его Величество занят приемом, но Рузский, торопливо скинув пальто, решительно сам открыл дверь и вошел в салон» (Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев и документы. М. 1998.С. 110—112).
В.Н.Воейков в своих воспоминаниях также подробно описал встречу Гучкова и Шульгина с Николаем II в Пскове:
«Я попросил коменданта поезда Гомзина быть во время приема депутатов безотлучно в столовой вагона, чтобы никому не дать возможности подслушать содержание беседы; сам же остался у входа с площадки вагона, так что имел возможность все видеть и всех слушать. Почти все время говорил Гучков, говорил ровно и очень спокойно; подробно описывал последние события в Петрограде. Внимательно его выслушав, Государь на свой вопрос, что он считал бы желательным, получил ответ Гучкова: “Отречение Вашего Императорского Величества от Престола в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича”. При этих словах Рузский, привстав, сказал: “Александр Иванович, это уже сделано”. Государь, делая вид, что не слышал слов Рузского, спросил, обращаясь к Гучкову и Шульгину: “Считаете ли вы, что своим отречением я внесу успокоение?” На это Гучков и Шульгин ответили Государю утвердительно. Тогда Государь им сказал: “В три часа дня я принял решение отречься от Престола в пользу своего сына Алексея Николаевича; но теперь, подумав, пришел к заключению, что я с ним расстаться не могу; и я передаю Престол брату моему — Михаилу Александровичу”. На это Гучков и Шульгин сказали: “Но мы к этому вопросу не подготовлены. Разрешите нам подумать”. Государь ответил: “Думайте”, — и вышел из салон-вагона. В дверях он обратился ко мне со словами: “А Гучков был совершенно приличен в манере себя держать. Я готовился видеть с его стороны совсем другое… А Вы заметили поведение Рузского?” Выражение лица Государя лучше слов показало мне, какое на него впечатление произвел его генерал-адъютант.
Государь позвал генерала Нарышкина и повелел ему переписать уже написанное им отречение с поправкою о передаче Престола брату Его Величества — великому князю Михаилу Александровичу» (Воейков В.Н.Указ. соч. С. 185—186).
Сохранился протокол переговоров делегатов Временного комитета Государственной думы А.И.Гучкова и В.В.Шульгина с императором Николаем II в Пскове от 2 марта 1917 г., в котором значится: «2 марта около 10 часов вечера приехали из Петрограда во Псков член Государственного совета Гучков и член Государственной думы Шульгин. Они были тотчас приглашены в вагон-салон Императорского поезда, где к тому времени собрались: главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-адъютант Рузский, министр Императорского Двора граф Фредерикс и начальник Военно-походной канцелярии Е.И.В. Свиты генерал-майор Нарышкин. Его Величество, войдя в вагон-салон, милостиво поздоровался с прибывшими и, попросив всех сесть, приготовился выслушать приехавших депутатов.
Член Государственного совета Гучков: “Мы приехали с членом Государственной думы Шульгиным, чтобы доложить о том, что произошло за эти дни в Петрограде, и вместе с тем посоветоваться о тех мерах, которые могли бы спасти положение. Положение в высшей степени угрожающее: сначала рабочие, потом войска примкнули к движению, беспорядки перекинулись на пригороды, Москва неспокойна. Это не есть результат какого-нибудь заговора или заранее обдуманного переворота, а это движение вырвалось из самой почвы и сразу получило анархический отпечаток, власти стушевались. Я отправился к замещавшему генерала Хабалова генералу Занкевичу и спрашивал его, есть ли у него какая-нибудь надежная часть или хотя бы отдельные нижние чины, на которых можно было бы рассчитывать. Он мне ответил, что таких нет и все прибывшие части тотчас переходят на сторону восставших. Так как было страшно, что мятеж примет анархический характер, мы образовали так называемый Временный комитет Государственной думы и начали принимать меры, пытаясь вернуть офицеров к командованию нижними чинами; я сам лично объехал многие части и убеждал нижних чинов сохранять спокойствие. Кроме нас, заседает в Думе еще комитет рабочей партии, и мы находимся под его властью и его цензурою. Опасность в том, что если Петроград попадет в руки анархии, нас, умеренных, сметут, так как это движение начинает нас уже захлестывать. Их лозунги: провозглашение социальной республики. Это движение захватывает низы и даже солдат, которым обещают отдать землю. Вторая опасность, что движение перекинется на фронт, где лозунг: смести начальство и выбрать себе угодных. Там такой же горючий материал, и пожар может перекинуться по всему фронту, так как нет ни одной воинской части, которая, попав в атмосферу движения, тотчас же не заражалась бы. Вчера к нам в Думу явились представители Сводного пехотного полка, Железнодорожного полка, Конвоя Вашего Величества, Дворцовой полиции и заявили, что примыкают к движению. Им сказано, что они должны продолжать охрану тех лиц, которая им была поручена; но опасность все-таки существует, так как толпа теперь вооружена. В народе глубокое сознание, что положение создалось ошибками власти, и именно Верховной власти, а потому нужен какой-нибудь акт, который подействовал бы на сознание народное. Единственный путь — это передать бремя Верховного правления в другие руки. Можно спасти Россию, спасти монархический принцип, спасти династию. Если Вы, Ваше Величество, объявите, что передаете свою власть Вашему маленькому сыну, если Вы передадите регентство великому князю Михаилу Александровичу и если от Вашего имени или от имени регента будет поручено образовать новое правительство, тогда, может быть, будет спасена Россия; я говорю «может быть», потому что события идут так быстро, что в настоящее время Родзянко, меня и других умеренных членов Думы крайние элементы считают предателями; они, конечно, против этой комбинации, так как видят в этом возможность спасти наш исконный принцип. Вот, Ваше Величество, только при этих условиях можно сделать попытку водворить порядок. Вот что нам, мне и Шульгину, было поручено Вам передать. Прежде чем на это решиться, Вам, конечно, следует хорошенько подумать, помолиться, но решиться все-таки не позже завтрашнего дня, потому что уже завтра мы не будем в состоянии дать совет, если Вы его у нас спросите, так как можно опасаться агрессивных действий толпы”.
Его Величество: “Ранее вашего приезда и после разговора по прямому проводу генерал-адъютанта Рузского с Председателем Государственной думы я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от Престола в пользу своего сына, но теперь, еще раз обдумав положение, я пришел к заключению, что, ввиду его болезненности, мне следует отречься одновременно и за себя и за него, так как разлучаться с ним я не могу”.
Член Государственного совета Гучков: “Мы учли, что облик маленького Алексея Николаевича был бы смягчающим обстоятельством при передаче власти”. Генерал-адъютант Рузский: “Его Величество беспокоится, что если Престол будет передан наследнику, то Его Величество будет с ним разлучен”. Член Государственной думы Шульгин: “Я не могу дать на это категорического ответа, так как мы ехали сюда, чтобы предложить то, что мы передали”. Его Величество: “Давая свое согласие на отречение, я должен быть уверенным, что Вы подумали о том впечатлении, какое оно произведет на всю остальную Россию. Не отзовется ли это некоторою опасностью”.
Член Государственного совета Гучков: “Нет, Ваше Величество, опасность не здесь. Мы опасаемся, что если объявят республику, тогда возникнет междоусобие”.
Член Государственной думы Шульгин: “Позвольте мне дать некоторое пояснение, в каком положении приходится работать Государственной думе. 26-го вошла толпа в Думу и вместе с вооруженными солдатами заняла всю правую сторону, левая сторона занята публикой, а мы сохранили всего две комнаты, где ютится так называемый комитет. Сюда тащат всех арестованных, и еще счастье для них, что их сюда тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы; некоторых арестованных мы тотчас же освобождаем. Мы сохраняем символ управления страной, и только благодаря этому еще некоторый порядок мог сохраниться, не прерывалось движение железных дорог. Вот при каких условиях мы работаем, в Думе ад, это сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами, а для этого нужна какая-нибудь почва. Относительно Вашего проекта разрешите нам подумать хотя бы четверть часа. Этот проект имеет то преимущество, что не будет мысли о разлучении и, с другой стороны, если Ваш брат великий князь Михаил Александрович, как полноправный монарх, присягнет конституции одновременно с вступлением на Престол, то это будет обстоятельством, содействующим успокоению”.
Член Государственного совета Гучков: “У всех рабочих и солдат, принимавших участие в беспорядках, уверенность, что водворение старой власти — это расправа с ними, а потому нужна полная перемена. Нужен на народное воображение такой удар хлыстом, который сразу переменил бы все. Я нахожу, что тот акт, на который Вы решились, должен сопровождаться и назначением Председателя Совета Министров князя Львова”.
Его Величество: “Я хотел бы иметь гарантию, что вследствие моего ухода и по поводу его не было бы пролито еще лишней крови”.
Член Государственной думы Шульгин: “Может быть, со стороны тех элементов, которые будут вести борьбу против нового строя, и будут попытки, но их не следует опасаться. Я знаю, например, хорошо гор. Киев, который был всегда монархическим; теперь там полная перемена”.
Его Величество: “А Вы не думаете, что в казачьих областях могут возникнуть беспорядки?”
Член Государственного совета Гучков: “Нет, Ваше Величество, казаки все на стороне нового строя. Ваше Величество, у Вас заговорило человеческое чувство отца, и политике тут не место, так что мы ничего против Вашего предложения возразить не можем”.
Член Государственной думы Шульгин: “Важно только, чтобы в акте Вашего Величества было бы указано, что преемник Ваш обязан дать присягу конституции”.
Его Величество: “Хотите еще подумать?”
Член Государственного совета Гучков: “Нет, я думаю, что мы можем сразу принять Ваши предложения. А когда бы Вы могли совершить самый акт? Вот проект, который мог бы Вам пригодиться, если бы Вы пожелали что-нибудь из него взять”.
Его Величество, ответив, что проект уже составлен, удалился к себе, где собственноручно исправил заготовленный с утра Манифест об отречении в том смысле, что Престол передается великому князю Михаилу Александровичу, а не великому князю Алексею Николаевичу. Приказав его переписать, Его Величество подписал Манифест и, войдя в вагон-салон, в 11 час 40 мин. передал его Гучкову. Депутаты попросили вставить фразу о присяге конституции нового императора, что тут же было сделано Его Величеством. Одновременно были собственноручно написаны Его Величеством Указы Правительствующему Сенату о назначении Председателем Совета Министров князя Львова и Верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. Чтобы не казалось, что акт совершен под давлением приехавших депутатов, и так как самое решение об отречении от Престола было принято Его Величеством еще днем, то, по совету депутатов, на Манифест было поставлено при подписи 3 часа дня, а на Указах Правительствующему Сенату — 2 часа дня. При этом присутствовал, кроме поименных лиц, начальник штаба армий Северного фронта генерал Данилов, который был вызван генерал-адъютантом Рузским.
В заключение член Думы Шульгин спросил у Его Величества о его дальнейших планах. Его Величество ответил, что собирается поехать на несколько дней в Ставку, может быть, в Киев, чтобы проститься с Государыней императрицей Марией Федоровной, а затем останется в Царском Селе до выздоровления детей. Депутаты заявили, что они приложат все силы, чтобы облегчить Его Величеству выполнение его дальнейших намерений. Депутаты попросили подписать еще дубликат Манифеста на случай возможного с ними несчастья, который остался бы в руках генерала Рузского. Его Величество простился с депутатами и отпустил их, после чего простился с главнокомандующим армиями Северного фронта и его начальником штаба, облобызав их и поблагодарив за сотрудничество. Приблизительно через час дубликат Манифеста был поднесен Его Величеству на подпись, после чего все четыре подписи Его Величества были конграссигнированы министром Императорского Двора графом Фредериксом» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2099. Л. 1—3 об.).
17. А.А.Мордвинов позднее вспоминал: «Не помню когда, но, кажется, очень скоро, ко мне в купе заглянул Нарышкин, озабоченно проходивший к себе в канцелярию по коридору. Я так и бросился к нему: “Ну, что, уже кончилось, уже решено, что они говорят?” — с замирающим сердцем спрашивал я его. “Говорит один только Гучков, все то же, что и Рузский, — ответил мне Нарышкин. — Он говорит, что, кроме отречения, нет другого выхода, и Государь уже сказал им, что он и сам это решил еще до них. Теперь они сомневаются, вправе ли Государь передать престол Михаилу Александровичу, минуя наследника, и спрашивают для справки основные законы. Пойдем, помоги мне их отыскать, хотя вряд ли они взяты у нас с собою в вагон. В них никогда не было надобности в путешествиях…” Все иллюзии пропадали, но я цеплялся еще за последнюю, самую ничтожную: “Раз вопрос зашел о праве, о законах, то, значит, с чем-то еще должны считаться даже и люди, нарушившие закон в эти бесправные дни, и может быть…”
Основные законы я знал лишь поверхностно, но все же мне пришлось с ними знакомиться лет пять назад, когда возникли разные вопросы в связи с состоявшимся браком великого князя Михаила Александровича с г-жой Вульферт. Тогда все было ясно, но это было давно, я многие толкования забыл, хотя и твердо сознавал, что при живом наследнике Михаил Александрович мог бы воцариться лишь с согласия и отказа самого Алексея Николаевича от своих прав. А если такой отказ по малолетству Алексея Николаевича немыслим и он должен будет вопреки желанию отца сделаться царем, то, может быть, и Государь, которому невыносима мысль расстаться с сыном, отдумает поэтому отрекаться, чтобы иметь возможность оставить его при себе. Облегчение для меня в данную минуту заключалось в том, имелось ли в основных законах указание на право Государя как опекуна отречься не только за себя, но и за своего малолетнего сына от престола. Что в обыденной жизни наши гражданские законы таких прав опекуну не давали, я знал твердо по собственному опыту, что сейчас и высказал Нарышкину по дороге, проходя с ним в соседний вагон, где помещалась наша походная канцелярия.
— Что говорят об этом основные законы, я хорошо не помню, но знаю почти заранее, что они вряд ли будут по смыслу противоречить обыкновенным законам, по которым опекун не может отказываться ни от каких прав опекаемого, а значит, и Государь до совершеннолетия Алексея Николаевича не может передать престол ни Михаилу Александровичу, ни кому-либо другому. Ведь мы все присягали Государю и его законному наследнику, а законный наследник, пока жив Алексей Николаевич, только он один.
— Я и сам так думаю, — ответил в раздумье Нарышкин, — но ведь Государь не просто частный человек, и может быть учреждение императорской фамилии и основные законы и говорят об этом иначе.
— Конечно, Государь не частный человек, а самодержец, — сказал я, — но, отрекаясь, он уже становится этим частным человеком и просто опекуном, не имеющим никакого права лишать опекаемого его благ. Том основных законов, к нашему удовлетворению, после недолгих розысков нашелся у нас в канцелярии, но, спешно перелистывая его страницы, прямых указаний на права Государя как опекуна мы не нашли. Ни одна статья не говорила о данном случае, да там и вообще не было упомянуто о возможности отречения Государя, на что мы оба, к нашему удовлетворению, обратили тогда внимание.
Нарышкин торопился. Его ждали, и, взяв книгу, он направился к выходу. Идя за ним, я, помню, ему говорил:
— Хотя в основных законах по этому поводу ничего ясного нет, все же надо непременно доложить Государю, что по смыслу общих законов он не имеет права отрекаться за Алексея Николаевича. Опекун не может, кажется, даже отказаться от принятия какого-либо дара в пользу опекаемого, а тем более, отрекаясь за него, лишать Алексея Николаевича и тех имущественных прав, с которыми связано его положение как наследника. Пожалуйста, непременно доложи обо всем этом Государю. Лишь как сквозь туман вспоминаю я и возвращение Нарышкина и Фредерикса от Государя и их сообщение о происходивших переговорах. Рассказ Шульгина, напечатанный в газетах, который я впоследствии прочел, многое возобновил в моей памяти. За небольшими исключениями (про справку в основных законах Шульгин умалчивает), он, в общем, верен и правдиво рисует картину приема членов Думы. Около двенадцати часов ночи Гучков и Шульгин покинули наш поезд, ушли к Рузскому, и мы их больше не видали... Никаких известий из Царского все еще получено не было. В это время принесли телеграмму от Алексеева из Ставки, испрашивавшего у Государя разрешения на назначение, по просьбе Родзянко, генерала Корнилова командующим Петроградским военным округом, и Его Величество выразил на это свое согласие. Это была первая и последняя телеграмма, которую Государь подписал как император и как Верховный главнокомандующий уже после своего отречения» (Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев и документы. М. 1998. С. 112—114).
В.Н. Воейков в своих воспоминаниях так описал вручение Манифеста об отречении Николая II представителям Государственной думы:
«Через некоторое время Манифест был напечатан на машинке. Государь его подписал у себя в отделении и сказал мне: “Отчего Вы не вошли?” Я ответил: “Мне там нечего делать”. — “Нет, войдите”, — сказал Государь. Таким образом, войдя за Государем в салон-вагон, я присутствовал при том тяжелом моменте, когда император Николай II вручил свой Манифест об отречении от трона комиссарам Государственной думы, которые, в его ошибочном мнении, были представителями русского народа. Тут же Государь предложил министру Двора его скрепить» (Воейков В.Н. Указ. соч. С. 186—187).
Манифест об отречении Николая II:
«Начальнику Штаба.
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года
поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое
тяжкое испытание. Начавшись, внутренние народные волнения грозят
бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба
России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до
победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок
час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками
сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни
России почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение
и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы
и, в согласии с Государственной думой, признали МЫ за благо отречься от
Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не
желая расстаться с любимым Сыном НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ
Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем
ЕГО на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем
Брату НАШЕМУ править делами государственными в полном и ненарушимом
единении с представителями народа в законодательных учреждениях,
на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую
присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов
Отечества к исполнению своего святого долга перед НИМ, повиновением
Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с
представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы,
благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.
Министр Императорского Двора
Генерал-адъютант граф Фредерикс» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101-а. Л. 5).
Позднее в эмиграции член Государственного совета В.И.Гурко оценивал этот решительный шаг императора: «Отстаивал Государь свое самодержавие по причинам исключительно принципиального свойства. Во-первых, он был глубоко и искренно убежден, что самодержавие — единственная форма правления, соответствующая России. Во-вторых, он считал, что, при венчании на царство, он дал обет передать своему наследнику власть в том же объеме, в котором сам ее получил.
Теорию эту поддерживала и царица. Проповедовали ее и крайне правые, фанатично доказывая, что русский самодержавный царь не имеет права чем-либо ограничить свою власть. Соответственно этому и Николай II почитал себя вправе отречься от престола, но не вправе сократить пределы своих царских полномочий» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 47).
Однако было и другое мнение. Комиссар путей сообщения Временного комитета Государственной думы А.А.Бубликов позднее в своих воспоминаниях утверждал: «Одной из основных черт характера семьи Романовых является их лукавство. Этим лукавством проникнут и весь акт отречения.
Во-первых, он составлен не по форме: не в виде манифеста, а в виде депеши начальнику штаба в Ставку. При случае это — кассационный повод. Во-вторых, в прямое нарушение основных законов Империи Российской он содержит в себе не только отречение императора за себя, на что он, конечно, имел право, но и за наследника, на что он уже определенно никакого права не имел.
Цель этого беззакония очень проста. Права наследника этим нисколько по существу не подрывались, ибо по бездетном и состоящем в морганатическом браке Михаиле, в пользу которого отрекся Николай, все равно автоматически имел право вступать на престол Алексей. Но зато на время беспорядков с него как бы снимался всякий odium как с отрекшегося от своих прав.
Какая ирония судьбы! Этот акт самонизложения монарха пришлось получать из его рук двум убежденным монархистам — Гучкову и Шульгину. И они продолжали не верить, что революция совершилась, что в России нет и больше быть не может монарха» (Бубликов А.А. Русская революция. Впечатления и мысли очевидца и участника. Нью-Йорк, 1918. С. 27).
Д.Н. Дубенский записал в своем дневнике:
«Государь после 12 час. ночи ушел к себе в купе и оставался один. Генерал Рузский, Гучков, Шульгин и все остальные скоро покинули царский поезд, и мы не видели их больше. После часа ночи депутатский поезд, т.е. собственно один вагон с паровозом, отбыл в Петроград. Небольшая кучка народа смотрела на этот отъезд. Дело было сделано — императора Николая II уже не было. Он передал престол Михаилу Александровичу. Может быть, кто-либо искренно верил в благодетельные последствия этого переворота, но я, да и многие, очень многие, ожидали только гибели для нашей родины и видели впереди много горестных дней» (Дубенский Д.Н. Указ. соч. С. 62).
Великий князь Андрей Владимирович 14 июня 1917 г. в Кисловодске записал рассказ со слов генерала Н.В. Рузского:
«К 9 ч. [утра 2 марта] был назначен доклад у Государя, но я получил приказание явиться на 1/2 часа позже. К этому времени от генерала Эверта получен был ответ, в котором он ходатайствовал перед Государем об отречении. Государь внимательно прочел мой разговор с Родзянко, телеграмму Эверта; в то время пришла телеграмма от Сахарова примерно такого же содержания. Государь внимательно читал, но ничего не отвечал. Подошло время завтрака, и Государь пригласил меня к столу, но я отпросился в штаб, принять утренний доклад и просмотреть накопившиеся за ночь телеграммы. К 2 часам приказано мне было вернуться. За это время пришла телеграмма от Сахарова, тоже с ходатайством об отречении. Кроме того, получены были известия о событиях в Петрограде, из коих ясно было, что на восстановление порядка рассчитывать уже невозможно. Весь гарнизон перешел во власть Временного правительства. Со всеми этими сведениями я прибыл к Государю. Он их внимательно читал. Тут прибыли телеграммы от Брусилова, Алексеева и великого князя Николая Николаевича. Последнюю телеграмму Государь прочел внимательно два раза и в третий раз пробежал. Потом обратился к нам и сказал:
— Я согласен на отречение, пойду и напишу телеграмму.
Это было 2 ч. 45 м. дня.
Я должен добавить, — продолжал Рузский, — что я прибыл к Государю не один, а в сопровождении начальника штаба генерала Данилова и начальника снабжения генерала Саввича. Обоих я вызвал утром к себе и передал им ход событий и переговоров, не высказывая своего мнения. Я просил их ехать к Государю со мной, потому что мне было ясно, за эти оба дня, да и раньше я это чувствовал, что Государь мне не доверяет. Когда я прибыл в 2 ч. к Государю, я ему прямо сказал:
— Ваше Величество, я чувствую, что Вы мне не доверяете, позвольте привести сюда генералов Данилова и Саввича, и пусть они оба изложат свое личное мнение.
Государь согласился, и генерал Данилов в длинной речи изложил свое мнение, которое сводилось к тому, что для общего блага России Государю необходимо отречься от престола. Примерно то же, но короче сказал генерал Саввич. Таким образом, весь вопрос об отречении был решен от 2 до 2 ч. 45 м. дня, т.е. в часа времени, тогда как вопрос об ответственном министерстве накануне решался от 9 ч. вечера до 12. ночи.
Пока Государь писал телеграмму, комендант станции передал мне, что только что получена телеграмма из Петрограда с известием, что в Псков с экстренным поездом едут Гучков и Шульгин. В 3 ч. ровно Государь вернулся в вагон и передал мне телеграмму об отречении в пользу наследника. Узнав, что едут в Псков Гучков и Шульгин, было решено телеграммы сейчас не посылать, а выждать их прибытия. Я предложил Государю лично сперва с ними переговорить, дабы выяснить, почему они едут, с какими намерениями и полномочиями. Государь с этим согласился, с чем меня и отпустил. Было очень важно знать настроение столицы и соответствует ли решение Государя действительно мнению Думы и Временного правительства. После этого я пошел в свой вагон и предупредил, что в случае необходимости я буду недалеко. Не прошло и часа после моего ухода, как ко мне пришел один из флигель-адъютантов и попросил вернуть Государю телеграмму. Я ответил, что принесу лично, и пошел в царский поезд и застал Государя и графа Фредерикса. Начался общий разговор, но телеграмму у меня не взяли, да и вообще о ней не было разговора, и я до сих пор не понимаю, почему ее хотели взять назад, а когда я принес, то о ней как будто и забыли.
Я чувствовал, что Государь мне не доверяет и хочет вернуть телеграмму обратно, почему я прямо заявил:
— Ваше Величество, я чувствую, Вы мне не доверяете, но позвольте последнюю службу все же сослужить и переговорить до Вас с Гучковым и Шульгиным и выяснить общее положение.
На это Государь сказал: хорошо, пусть останется, как было решено. Я вернулся к себе в вагон с телеграммой в кармане и еще раз предупредил коменданта, чтоб, как только приедут Гучков и Шульгин, вести их прямо ко мне в вагон. Возвращаясь к себе в вагон, я зашел к Воейкову, где у меня произошел довольно крупный разговор, даже не разговор, а я ему просто наговорил кучу истин примерно такого содержания:
— Я почти ничем не обязан Государю, но Вы ему обязаны во всем, и только ему, и Вы должны были знать, а это Ваша обязанность была знать, что творилось в России. И теперь на Вас ляжет тяжелая ответственность перед родиной, что Вы допустили события, [и позволили] прийти к такому роковому концу. Он так на меня и вытаращил глаза, но ничего не ответил, и я ушел к себе в вагон немного отдохнуть, предупредив коменданта, чтобы Гучкова и Шульгина по приезде провести прямо ко мне. Мне хотелось узнать от них в чем дело, и если они вправду приехали с целью просить Государя об отречении, то сказать им, что это уже сделано. Хотелось мне спасти насколько возможно престиж Государя, чтобы не показалось им, что под давлением с их стороны Государь согласился на отречение, а принял его добровольно и до их приезда. Я это сказал и Государю и просил разрешения сперва их повидать, на что получил согласие. Не помню, в котором часу это было, кажется, около 7 ч. вечера, ко мне снова пришли от Государя — просить назад телеграмму. Я ответил, что принесу лично, и стал одеваться. Когда послышался шум приближающегося поезда, тут же прибежал комендант и сообщил, что Гучков и Шульгин прибыли и уже направлялись ко мне в вагон, когда их по дороге перехватили и потребовали к Государю. Я оделся и пошел в поезд Государя и застал тот момент, когда Гучков излагал ход событий в Петрограде. Все сидели в закусочном отделении вагона-столовой у стола против Государя — Гучков, опустивши глаза на стол, рядом Шульгин, около которого я и сел между ним и Государем, а по ту сторону сидел граф Фредерикс. В углу, как я потом заметил, кто-то сидел и писал.
Речь Гучкова длилась довольно долго. Он подробно все изложил и в заключение сказал, что единственным выходом из положения он считает отречение Государя в пользу наследника. Здесь я сказал своему соседу Шульгину, что Государь уже решил этот вопрос, и с этими словами передал Его Величеству телеграмму об отречении, думая, что Государь развернет телеграмму (она была сложена пополам) и прочтет ее Гучкову и Шульгину. Каково было мое удивление, когда Государь взял телеграмму, спокойно сложил ее еще раз и спрятал в карман. После этого Государь обратился к членам Думы со следующими словами. Принимая во внимание благо Родины и желая ей процветания и силы, для доведения войны до победного конца он решил отречься от престола за себя и за Алексея:
— Вы знаете, — сказал Государь, — что он нуждается в серьезном уходе.
Все так и были огорошены совершенно неожиданным решением Государя. Гучков и Шульгин переглянулись удивленно между собой, и Гучков ответил, что такого решения они не ожидали, и просили разрешения обсудить вдвоем вопрос и перешли в соседнее столовое отделение. Государь удалился писать телеграмму. Вскоре я пошел к Гучкову и Шульгину и спросил их, к какому они пришли решению. Шульгин ответил, что они решительно не знают, как поступить. На мой вопрос, как по основным законам, может ли Государь отрекаться за сына, — они оба не знали. Я им заметил — как это они едут по такому важному государственному вопросу и не захватили с собой ни тома основных законов, ни даже юриста. Шульгин ответил, что они вовсе не ожидали такого решения Государя. Потолковав немного, Гучков решил, что формула Государя приемлема, что теперь безразлично, имеет ли Государь право или нет. С этим они вернулись к Государю, выразили согласие и получили от Государя уже подписанный манифест об отречении в пользу Михаила Александровича.
Разговоры затянулись почти до 12 ночи, а когда все стали расходиться, Гучков обратился к толпе у вагона со следующими словами: «Господа, успокойтесь, Государь дал больше, нежели мы желали». Вот эти слова Гучкова остались для меня совершенно непонятными. Что он хотел сказать — “больше, нежели мы желали”. Ехали ли они с целью просить об ответственном министерстве или отречении — я так и не знаю. Никаких документов они с собой не привезли. Ни удостоверения, что они действуют по поручению Государственной думы, ни проекта об отречении. Решительно никаких документов я в их руках не видел. Если они ехали просить об отречении и получили его, то незачем Гучкову было говорить, что они получили больше, нежели ожидали. “Я думаю, — заключил Рузский, — что они оба на отречение не рассчитывали”».
«Закончив свой рассказ, который длился от 3 до 7 ч., Н.В. [Рузский] спросил меня, не знаю ли я, с чем ехали Гучков и Шульгин в Псков. Я всегда думал, что они взяли проект манифеста об отречении, так, по крайней мере, я помню, говорил Караулов. Меня тоже все так уверяли, но положительно подтверждаю, что оба никаких документов с собой не привезли. Между прочим, как Гучков, так и Шульгин приехали в замечательно грязном, нечесаном состоянии, и Шульгин извинился за это неряшливое состояние перед Государем, что они три дня провели в Думе не спавши. Я потом им говорил: “Что Вы грязные приехали, это полбеды, но беда в том, что Вы приехали, не зная законов”.
И меч поднимет сын на старого отца…
Пройдут века; но подлости народной
С страниц Истории не вычеркнут года: —
Отказ Царя, прямой и благородный,
Позором нашим будет навсегда.
(Новое время. Белград, 1922. 21 мая. № 321; Бехтеев С.С. Песни русской скорби и слез. Белград, 1923.)
А.А.Бубликов позднее в своих воспоминаниях выражал удивление по поводу дальнейшей поездки Николая II в Ставку: «Что делал в это время царь? Царь, к великому моему удивлению, отправился из Пскова в Ставку. Как только я получил справку о назначении в Могилев для литерного поезда “А”, в котором царь путешествовал по России, я немедленно же телеграфировал Гучкову, с согласия которого это, конечно, только и могло произойти, чтобы высказать ему свое недоумение и опасение, как бы царь в Ставке не вздумал организовать сопротивление. Но Гучков спокойно ответил: “Он совершенно безвреден”. И действительно, он совершенно добросовестно подчинился своей участи. Последнее его приказание было ген. Иванову, который пытался прорваться в Петербург с двумя эшелонами георгиевских кавалеров, — прекратить сопротивление и подчиниться новой власти. Но все-таки разрешение уволенному в отставку царю свободно разъезжать по стране, направляться к войскам, среди которых могли оказаться и преданные ему, все это не могло не казаться странным с первого взгляда» (Бубликов А.А. Указ. соч. С. 47).
В царской династии Романовых с ее богатейшей 300-летней историей особняком стоят имена последнего русского императора Николая II и его дражайшей супруги императрицы Александры Федоровны, на долю которых выпала, как мы знаем, наиболее трагическая судьба. Жизненный путь венценосных особ описан многократно и в подробностях. Гораздо меньше известно об их взаимоотношениях, освещенных высокой любовью, о которой в народе говорят - неземная
Р оссийского государя, помазанника Божьего, и государыню связывали глубокие чувства, проверенные временем. Еще будучи женихом и невестой, а потом и после бракосочетания в 1894 году, если случалась вынужденная разлука, вызванная важными государственными делами, они писали друг другу нежные и трогательные письма. К счастью, в Государственном архиве Российской Федерации сохранилась большая часть их переписки, включающая свыше пятисот писем, каждое из которых было аккуратно ими пронумеровано. По этим весточкам сердца можно представить, какими были в жизни Николай и Александра. Как и в юности, они по-прежнему называли друг друга Ники и Алике, делились сокровенным, поверяли свои мысли, переживания.
Судя по датам посланий, Николай и Александра писали друг другу ежедневно, а иной раз и дважды в день. Эта красноречивая деталь лучше любых слов свидетельствует о привязанности супругов, их потребности делиться новостями и впечатлениями, изливать друг другу душу. Кстати, фельдъегерская почта работала безукоризненно, как швейцарские часы.
Особый интерес представляют письма царской четы, написанные в конце августа - начале сентября 1902 года, когда император Николай II находился в Курске, где проходили грандиозные военные маневры российской армии с участием более 90000 человек. Вместе с государем в Курске находились великие князья, министры императорского двора, царская свита. По этому случаю из Коренной пустыни в Знаменский собор была досрочно перенесена чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная.
Об исторических событиях тех дней напоминает бронзовый бюст Николая II работы скульптора Вячеслава Клыкова, который установлен в Северо-западном микрорайоне Курска возле часовни «Неупиваемая чаша». Место для памятника выбрано не случайно: именно здесь, на самой высокой вершине возвышенности, получившей название Казацкого холма, 5 сентября 1902 года состоялся смотр-парад царских войск, который принимал сам император.
Отзвуком далеких лет служат и публикуемые письма. Они ценны как сами по себе, так и описанием подробностей встреч Николая II с курянами. Приходится только сожалеть, что в собранной архивистами переписке четы Романовых отсутствуют письма Николая II под номерами Н-161 и Н-162, направленные супруге сразу по приезде в Курск 29 и 30 августа 1902 года. Вот почему подборку посланий того периода открывает письмо Александры Федоровны.

За Веру, Царя и Отечество.
31 августа 1902 года,
письмо А-169.
Мой любимый!
Какую глубокую радость сегодня утром доставило мне твое письмо. От всего сердца благодарю тебя за него. Да, милый, действительно, это расставание было одним из самых тяжелых, но каждый день снова приближает нашу встречу. Должно быть, было очень тяжело во время речей...
Твои дорогие письма и телеграммы я положила на твою кровать, так что, когда я ночью просыпаюсь, могу потрогать что-то твое. Только подумайте, как говорит эта замужняя старушка - как выразились бы многие, «старомодно». Но чем бы была жизнь без любви, что бы стало с твоей женушкой без тебя? Ты мой любимый, мое сокровище, радость моего сердца. Чтобы дети не шумели, я с ними играю: они что-то задумывают, а я отгадываю. Ольга (старшая дочь Романовых - ред.) всегда думает о солнце, облаках, небе, дожде или о чем-нибудь небесном, объясняя мне, что она счастлива, когда думает об этом...
Сейчас до свидания.
Да благословит и хранит тебя Бог.
Крепко целую, милый, твоя нежно любящая и преданная женушка, Алике.
В поезде * , 1 сентября 1902 года,
письмо Н-143.
Моя дорогая! Большое спасибо за твое дорогое письмо.
Оно лежало на столе в моем купе, когда мы вернулись после успешного визита в Курск. Мы выехали в 9.30 и вернулись к обеду, в 3 часа. Видишь, какое было насыщенное воскресное утро. , где была очень хорошая служба. После службы . Собор был полон школьников, девочек и мальчиков, я их всех видел. Оттуда мы пошли в другую прекрасную старинную , потом посетили госпиталь Красного Креста, который прекрасно содержится. После этого. В величественном зале Епископ поставил копию в положении стоя, довольно хорошая фигура.
Мы все ужасно проголодались и с благодарностью приняли предложение выпить чашку чая с бутербродами. Все сидели за круглым столом, и высокая была хозяйкой за трапезой. Было довольно много дам, некоторые весьма симпатичные, с роковыми глазами, и они упорно смотрели прямо на меня и на , приятно улыбаясь, когда мы в их направлении поворачивали головы. В конце чая вокруг нас стояла такая стена из них, что это невозможно было больше выносить, и мы встали. Мария Барянская очень много расспрашивала о тебе.
Наш последний визит был в , где я снова говорил речь. На этот раз - для крестьян пяти соседних губерний. Это прошло хорошо, потому что намного легче говорить с простыми людьми. , полные наилучших впечатлений, и провели спокойный день в Ярославле.
После прекрасной летней погоды, которая стояла последние дни, внезапно стало холодно. В 8 часов был большой обед для именитых гостей Курска, примерно на 90 персон. Приезжал из своего лагеря, а потом сразу уехал. Он хочет ехать в Петергоф, чтобы привезти Эллу. Сейчас до свидания, да благословит тебя Бог, моя милая женушка.
Нежно целую тебя и всех детей...
Твой вечно любящий и преданный, Ники.

Памятник Александру III в зале Дворянского собрания.
- «В поезде...» - в период маневров (с 29 августа по 5 сентября 1902 года) царь и его свита жили в специальном поезде на станции Рышково, недалеко от Курска.
- «Мы проехали через город к собору...» (Знаменскому).
- «...мы все прикладывались к образу Богородицы» - икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная.
- «Церковь, построенная Растрелли» - Сергиево-Казанский кафедральный собор, хотя авторство Растрелли до сих пор не подтверждено документально.
- «...поехали во дворец Епископа» - видимо, речь идет о палатах архиерея (ныне здание Государственного областного краеведческого музея на ул. Луначарского, 8).
- «Папин бюст» - скульптурный портрет царя Александра III, торжественно открытый в здании Дворянского собрания (ныне Дом офицеров) 1 сентября 1902 года в присутствии императора Николая II.
- Мария Барянская - имя, не знакомое курским краеведам. Возможно, царь не точно называет фамилию княгини М. Барятинской? Однако можно с уверенностью сказать, что это дама из высшего общества.
- Миша - великий князь Михаил Александрович, брат Николая II.
- «Дом губернатора» - здание сохранилось (ул. Дзержинского, 70, напротив кинотеатра им. Щепкина).
- «Мы покинули Курск... и провели спокойный день в Ярославле». Так преднамеренно (на случай перехвата) зашифровал автор письма расположение своей ставки во время военных маневров.
- Сергей - великий князь Сергей Александрович, дядя Николая II и муж великой княгини Елизаветы Федоровны (Эллы), сестры императрицы Александры Федоровны.
Петербург,
3 сентября 1902 года,
письмо А-172.
Любовь моя,
Нежно тебя благодарю за интересное письмо о визите в Курск. В газетах я тоже читала детальное описание. Образ Божией Матери - это тот, который любил о. Серафим и который исцелил его в детском возрасте. Я вижу, как ты пьешь чай, окруженный толпой болтающих дам, и представляю выражение смущения на твоем лице, которое делает твои милые глаза еще более опасными. Я уверена, что тогда многие сердца забились сильнее. Я заставлю тебя носить синие очки, чтобы отпугивать веселых бабочек от моего чересчур опасного мужа.
Каким впечатляющим и эмоциональным зрелищем была, должно быть, атака 80-ти батальонов, а потом этот колоссальный обед на лугу.
Дождь, дождь, очень высоко поднялась вода, но сегодня намного теплее...
Нужно отправляться в постель. Доброй ночи, да благословит и сохранит тебя Бог. Нежно целую моего любимого супруга, твоя родная женушка,
В поезде,
2 сентября 1902 года,
письмо Н-144.
Моя родная, бесценная,
С любовью благодарю тебя за твое дорогое письмо, которое обрадовало меня гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Чем ближе дата нашей встречи, тем больше растет мое нетерпение.
Я надеюсь вернуться 6-го числа в 10.45 вечера... К счастью, сегодня погода стала намного лучше, в голубом небе ни облачка и приятное теплое солнце. , так как войска подошли к нам со всех сторон. Сергей отходит , а другой командир сосредоточил всю свою армию на этой стороне реки. Завтра будет большая атака с переходом через реку Семур и отчаянная попытка отогнать Сергея с большой дороги на Москву.
Это чрезвычайно трудная задача, так как позиция Сергея сейчас очень сильная, на заболоченной реке, на которой мало мостов, а длинные дороги, проложенные вдоль берегов, затопляются. Хотя в одном, самом отдаленном месте, куда я ездил сегодня утром, один корпус из одесских войск ухитрился перейти реку, не встретив войск противника. , мы выходили из экипажа и заходили в две церкви. Люди бежали за нами километрами, какие у них прекрасные легкие! Я видел старых солдат, некоторые из них с крестами и медалями за прошлую войну. Я говорил со многими. Наши верховые лошади и тройки очень устали, потому что бедные животные во время маневров стояли в отдаленной от железной дороги деревне и должны были всегда приходить, забирать нас и везти туда, потом обратно, а потом возвращаться домой. Но никто не виноват, заранее нельзя вычислить, какое место в больших маневрах сыграет решающую роль.
Да благословит тебя Бог, моя дорогая маленькая Алике.
Нежно целую тебя, а также детей.
Всегда преданный тебе муженек,
- «Мы не уехали очень далеко...» Военные Маневры проходили не только в самом Курске, но и в окрестных селах.
- «...по направлению к Курску за реку Семур» . Так ради конспирации, чтобы не раскрывать дислокацию войск, Николай II называет реку Сейм.
- «Проезжая через деревни...» Наблюдая за ходом маневров, Николай II проезжал через села Дьяконово, Мальцево, Лозовское, Иванино, Колпаково, хутор Овчарный.

Его Величество в Курске
В сего четыре письма, но сколько любопытного узнаем мы о тех, кто их писал. Александра Федоровна предстает заботливой матерью, любящей, но ревнивой женушкой, а ее Ники - не менее любящим мужем, к тому же на удивление скромным человеком, доступным для общения как знати, так и низам. Простой, непритязательный язык передает главное - единение двух любящих сердец, сохранивших верность друг другу до конца своих дней и вместе принявших мученическую смерть 17 июля 1918 года.
Обращает на себя внимание упоминание в письмах, причем дважды, образа Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной. Этот святой образ исцелил не только Прохора Машнина, будущего преподобного Серафима Саровского, но и бесчисленное множество паломников, что притекали за исцелением на благословенную Курскую землю. Великий молитвенник был прославлен в лике святых в период царствования Николая II в 1903 году, вскоре после пребывания государя и помазанника Божия на земной родине преподобного. Всероссийские церковные торжества по этому случаю проходили в Сарове с молитвенным участием Николая II и его супруги. Высочайшими дарами царской четы была украшена рака святого. Сама Александра Федоровна собственноручно вышивала лентами рисунок необыкновенной красоты на дорожках для раки преподобного, перед мощами которого венценосные супруги благоговейно молили Бога о наследнике, который был дарован им с рождением цесаревича Алексея.
И государь, и государыня, в 1894 году добровольно перешедшая из лютеранской веры в православную, что требовалось от супруги русского монарха, трепетно относились к вере, черпали в ней душевные силы, укреплялись духом в минуты страданий и горя.
И последнее. В личной переписке, как правило, не используется высокий слог для выражения гражданской позиции, державных идей. Следует, однако, напомнить слова российского императора Николая II, причисленного Русской Православной Церковью клику святых, о государственной миссии, выпавшей на его долю: «Я питаю твердую, абсолютную уверенность, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи находятся в руке Бога, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей, с сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую Он мне вверил».
(Полностью переписка Николая Александровича и Александры Федоровны Романовых опубликована в книге «Аивный свет. Аневни-ковые записи, переписка, жизнеописание государыни императрицы Александры Федоровны Романовой»
(Москва, Российское отделение Валаамского общества Америки, 2003).
Подготовила и прокомментировала Тамара ГРИВА.
Опубликовано "VIP" №5 2004 г.
Любовь с первого взгляда
Первая встреча цесаревича Николая и принцессы Гессен-Дармштадской Алисы произошла в 1884 году, когда девочка приехала в Россию. Будущему императору тогда было 16 лет, а Алисе — всего 12. В 1889 они встретились вновь. Но Николай уже тогда почувствовал, что встретил любовь всей своей жизни. В своем дневнике он писал: «Я мечтаю когда-нибудь жениться на Аликс Г. Я люблю ее давно, но особенно глубоко и сильно с 1889 года, когда она провела 6 недель в Петербурге. Все это время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться».
Николай впервые встретил Алису, когда ему было 16, а ей 12 лет
Но родные влюбленных были против брака. Николаю пророчили куда более успешную партию, к тому же Алиса была родственницей цесаревича, да еще и не православной веры. Николай не отчаивался и ждал своей судьбы 5 лет. К 1894 здоровье Александра III стало вызывать серьезные опасения, и брак Николая и Алисы благословили. Принцесса приняла православие, и меньше чем через неделю после смерти императора-отца Николая и Александру обвенчали. Их медовый месяц протекал в трауре, в череде панихид и визитов соболезнования. Нельзя придумать более драматичного начала для трагедии жизни последних Романовых.
В годовщину своей помолвки супруги всегда были вместе, и впервые провели ее в разлуке лишь в 1915 году. Александра Федоровна отправила возлюбленному на фронт нежное письмо: «В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как живо я все вспоминаю! Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы… Как время летит — уже 21 год прошел! Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», в котором я была в то утро, и я надену твою любимую брошку». Эту бриллиантовую брошь Николай подарил Алисе в день первой встречи, но девочка не смогла принять такой дорогой подарок. После свадьбы он снова преподнес возлюбленной украшение, и Александра всю жизнь хранила его как символ любви.

Молиться за тебя — моя отрада
Николай II никогда не был прирожденным управленцем, и хотя относился к своим обязанностям со всей ответственностью, доклады министров слушал со скукой. Последний русский император был настоящим семьянином — с удовольствием проводил время с детьми, катался с родными на байдарке или путешествовал. Александру Федоровну считали примерной женой — она с любовью относилась к супругу, заботилась о воспитании детей и следила за хозяйством.
В письмах супруги подписывались как «Ники» и «Аликс»
В начале XX века Россию захлестнула череда войн, и Николаю с Александрой все чаще приходилось проводить время порознь. Разлуку оба супруга переживали тяжело. «Молиться за тебя — моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ», — писала императрица в одном из своих писем. В многочисленных посланиях и телеграммах она признавалась, что очень скучает и целует на ночь подушку Николая.

Медовый месяц длиной в 23 года
Современники с завистью называли брак Николая II и Александры «медовым месяцем длиной в 23 года». До последних дней любовь супругов оставалась такой же нежной, как после помолвки. Их трогательную переписку не раз издавали отдельными сборниками. «Мое бесценное сокровище», «мое солнышко, мой драгоценный», «мой мальчик, мой солнечный свет» — так обращалась Александра Федоровна к своему монаршему супругу. «Моя возлюбленная душка женушка», — отвечал ей Николай. В посланиях они подписывались исключительно как «Аликс» и «Ники».

Секретом счастливой семейной жизни Александра считала внимание друг к другу. «Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких удовольствий — от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб», — писала она. В семье Романовых домочадцы часто делали друг другу подарки, самые известные из которых — яйца Фаберже на Пасху.
Когда император подписал отречение от престола и был вынужден отправиться в ссылку, Александра последовала за ним. Вместе с детьми они без жалоб и упреков вынесли все издевательства большевиков. И умерли в один день. Казалось, Александра Федоровна предвидела страшный конец своего брака. За много лет до этого, в день свадьбы, она написала в дневнике строки: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно».