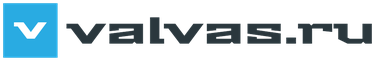Составленное Толстым объявление о прекращении журнала «Ясная Поляна» было напечатано в газете «Московские ведомости» (1863, № 13).
В нем Толстой заявил, что его педагогические взгляды «не только не изменились, но подтвердились и постоянно подтверждаются» и что прекращение журнала вызвано главным образом тем, что, «несмотря на лестные отзывы» в печати о его журнале «Ясная Поляна», число подписчиков не превышало 400.
Далее Толстой объявлял, что и впредь будет проводить свои «педагогические опыты» и делать свои «посильные наблюдения». С 1863 г. он предполагает выпускать «отдельные сборники статей по педагогическим вопросам» «по мере накопления материала».
ПСС, т. 8, с. 373.
Несмотря на это заявление Толстого, занятия в это время в яснополянской школе еще не были прекращены; школа продолжала существовать до осени 1863 г. Но 1 октября Толстой записал в Дневнике: «С студентами и с народом распростился». Большинство студентов, занимавшихся в школах, основанных Толстым, лишившись его руководства, не могли продолжать занятия и жить в условиях крестьянской обстановки и стали разъезжаться. Толстой успел полюбить всю эту горячую, восприимчивую, увлекающуюся молодежь, и ему грустно было расставаться с ними. «Студенты уезжают, и мне их жалко», - записал он в Дневнике 19 декабря.
На всю жизнь Толстой сохранит теплые воспоминания об этих студентах-учителях. В 1908 году он выражал желание написать для его биографии, над которой тогда работал П. И. Бирюков, воспоминания об этих студентах: «Какой это был народ! Чистые, самоотверженные…». В 1877 г., отвечая на письмо профессора Московского университета С. А. Рачинского, Толстой признавался, что старые «школьные времена <...> всегда останутся одним из самых дорогих и, главное, чистых воспоминаний». В письме к своему биографу П. И. Бирюкову в ноябре 1903 г., ответив на вопрос о его «любвях», Толстой счел нужным прибавить: «Самый светлый период моей жизни дала мне не женская любовь, а любовь к людям, к детям. Это было чудное время».
ПСС, т. 74, с. 239.
Толстой вспоминал о своих занятиях с детьми как о лучшем времени своей жизни и в беседе с А. Г. Русановым в 1896 г.*
Одной из причин прекращения занятий с крестьянскими ребятишками и общения с народом были новые условия его жизни: женитьба, семейная жизнь постепенно вытесняла другие интересы, в том числе – и главное – сближение с народом и занятие школами. Софья Андреевна не хотела примириться с этим, была настроена враждебно: «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, то есть я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Левы. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала потому, что мне всё и все стало гадко. И тетенька, и студенты, <...> и стены, и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому... Страшно с ним жить, вдруг народ полюбит опять, а я пропала» (дневниковая запись 23 ноября).
Важная причина прекращения Толстым школьных занятий – вновь обращение к литературной работе. Завершены повести «Поликушка» и «Казаки». Впереди – великая книга «Война и мир».
Прекращение деятельности яснополянской школы Толстого вызвало сожаление в печати. Петербургская газета «Голос» одну из корреспонденций из Москвы заканчивала печальным сообщением: «В заключение позвольте сообщить вам еще новость, хотя и не совсем утешительную. Мы слышали недавно за самое достоверное, что знаменитая яснополянская школа графа Толстого пришла в упадок. Говорят, что с тех пор, как граф Л. Н. Толстой перестал в ней постоянно заниматься лично, большая часть учеников перестала посещать школу и в последнее время число их уже ограничивалось только несколькими единицами. Излишне говорить, насколько неприятна такая новость. Л. Н. Толстой, как известно, основатель новой педагогической системы и проповедник новых педагогических начал, имеющих на своей стороне многое. Они немало могли внести в науку и жизнь при своем развитии, а развивать их некому, кроме Л. Н. Толстого. Известно, как мало существенной поддержки нашли не только в публике, но и в передовых людях новые мысли журнала “Ясная Поляна”, который должен был зачахнуть. Прозелитов эти мысли почти не нашли, хотя все признавали за ними достоинства; граф Толстой оставался одиночным их поборником, так как они не вызрели еще до ясности, и, должно признаться, что отстаивал он их стойко» (1863, № 54, 5 марта).
«Журнал Министерства народного просвещения» в статье В. Золотова, посвященной описанию осмотренных им народных школ, также выразил сожаление о прекращении яснополянской и других окрестных школ: «Я предполагал съездить в Ясную Поляну, но к крайнему моему сожалению узнал, что школа графа Толстого уже не существует; говорю “к крайнему сожалению” потому, что, несмотря на некоторые увлечения графа Толстого, все-таки школа его имела большое значение по своей практичности и особенно по своей резкой противоположности с педантичною педагогичностью <...> По свидетельству коротко знакомых с яснополянской школой, успехи учеников во многом действительно были поразительны»**.
Деятельность Толстого, издателя журнала «Ясная Поляна», вызвала многочисленные статьи современников; в частности, С. Ашевского (Русская школа, 1913, № 10).
В наши дни исследователи ХХ и начала ХХI вв. активно осваивают педагогическое наследие Толстого. Интернет наполнен ссылками на работы и рефераты о педагогических взглядах Толстого.
* См.: Русанов А. Г. Воспоминания о Л. Н. Толстом. – Воронеж, 1937. – С. 125.
** Журнал Министерства народного просвещения. – 1863. – № 12. – С. 184-185.
В Ясной Поляне Толстой решил основать новый журнал, рассчитывая на помощь и поддержку своих молодых сотрудников по яснополянской школе. Толстой хотел объединить в этом журнале «все то, что могло бы рассчитывать на неуспех в XIX-м и на хотя не успех – но читателей, в XX и дальнейшем столетиях». Материала у него, как всегда, было «гибель».
Журнал выходил в течение 1862-го года. Всего вышло в свет 12 номеров и 12 приложений к каждому номеру. Это был педагогический журнал, программа которого включала описание новых приемов обучения, новых принципов административной деятельности, распространения книг среди народа, анализ свободно возникающих школ. Толстой приглашал к сотрудничеству в журнале учителей, «смотрящих на свое занятие не только как на средство существования, не только как на обязанность обучения детей, но как на область испытания для науки педагогики». Начиная с 4 февраля 1862 г. он опубликовал в журнале двенадцать своих статей, в которых затронул целый ряд важнейших вопросов; одни были разработаны им подробно, других он коснулся вскользь.
Названия статей Толстого, напечатанных в журнале «Ясная Поляна», напоминали его «Севастопольские рассказы»: «Яснополянская школа в ноябре», «Яснополянская школа в декабре месяце…». Некоторые исследователи отмечают, что «вероятно, Толстой пошел на параллелизм названий педагогических статей и названий рассказов об обороне Севастополя, чтобы подчеркнуть, что сражение происходит на самом главном фронте». Толстой вновь почувствовал себя в центре современной журнальной жизни, в письме к Чернышевскому в «Современник» попросил дать отзыв и откровенно признался: «Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: “Да… “Детство” – это мило, но журнал?” А журнал и все дело составляют для меня все».
Вместе с тем еще осенью 1861 г. у Толстого не было никаких материалов для его журнала, за исключением начатой им за границей статьи «О народном образовании». 5 ноября Толстой начал писать для своего журнала «Дневник ясенский». Работа очень увлекла его, и вскоре большая статья под заглавием «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» была готова. Затем он пишет статьи: «О значении описания школ и народных книг», «О методах обучения грамоте», «История яснополянской школы» (впоследствии статья эта получила название «О свободном возникновении и развитии школ в народе»), пересказывает школьникам большую французскую повесть «Maurice, ou le travail», редактирует пересказ этой повести учениками, записанный учителями (под заглавием «Матвей»), и пишет предисловие к этому пересказу, редактирует статьи учителей открытых им школ о ходе их занятий.
В первый номер журнала вошли три статьи Толстого: «О народном образовании», «О значении описания школ и народных книг» и «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статьи учителей окрестных школ и составленное одним из учителей описание книг, которые он нашел у крестьян той волости, где была расположена его школа.
Первый номер «Ясной Поляны», после обращения «К публике», открывался статьей «О народном образовании». Статья была написана Толстым, но появилась без подписи, очевидно для указания на то, что статья выражает основные взгляды редакции.
25 января была разрешена цензурой первая «книжка» для детей, служившая приложением к «Ясной Поляне»; в ней был помещен пересказ яснополянскими школьниками повести «Матвей», с предисловием Толстого.
Во второй номер журнала вошли две его статьи – «О методах обучения грамоте» и «О свободном возникновении и развитии школ в народе» – и две статьи учителей школ.
В Ясной Поляне Толстой решил основать новый журнал, рассчитывая на помощь и поддержку своих молодых сотрудников по яснополянской школе. Толстой хотел объединить в этом журнале «все то, что могло бы рассчитывать на неуспех в XIX-м и на хотя не успех - но читателей, в XX и дальнейшем столетиях». Материала у него, как всегда, было «гибель».Журнал выходил в течение 1862-го года. Всего вышло в свет 12 номеров и 12 приложений к каждому номеру. Это был педагогический журнал, программа которого включала описание новых приемов обучения, новых принципов административной деятельности, распространения книг среди народа, анализ свободно возникающих школ. Толстой приглашал к сотрудничеству в журнале учителей, «смотрящих на свое занятие не только как на средство существования, не только как на обязанность обучения детей, но как на область испытания для науки педагогики». Начиная с 4 февраля 1862 г. он опубликовал в журнале двенадцать своих статей, в которых затронул целый ряд важнейших вопросов; одни были разработаны им подробно, других он коснулся вскользь.
Названия статей Толстого, напечатанных в журнале «Ясная Поляна», напоминали его «Севастопольские рассказы»: «Яснополянская школа в ноябре», «Яснополянская школа в декабре месяце...». Некоторые исследователи отмечают, что «вероятно, Толстой пошел на параллелизм названий педагогических статей и названий рассказов об обороне Севастополя, чтобы подчеркнуть, что сражение происходит на самом главном фронте». Толстой вновь почувствовал себя в центре современной журнальной жизни, в письме к Чернышевскому в «Современник» попросил дать отзыв и откровенно признался: «Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: “Да... “Детство” – это мило, но журнал?” А журнал и все дело составляют для меня все».
Вместе с тем еще осенью 1861 г. у Толстого не было никаких материалов для его журнала, за исключением начатой им за границей статьи «О народном образовании». 5 ноября Толстой начал писать для своего журнала «Дневник ясенский». Работа очень увлекла его, и вскоре большая статья под заглавием «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» была готова. Затем он пишет статьи: «О значении описания школ и народных книг», «О методах обучения грамоте», «История яснополянской школы» (впоследствии статья эта получила название «О свободном возникновении и развитии школ в народе»), пересказывает школьникам большую французскую повесть «Maurice, ou le travail», редактирует пересказ этой повести учениками, записанный учителями (под заглавием «Матвей»), и пишет предисловие к этому пересказу, редактирует статьи учителей открытых им школ о ходе их занятий.
В первый номер журнала вошли три статьи Толстого: «О народном образовании», «О значении описания школ и народных книг» и «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», статьи учителей окрестных школ и составленное одним из учителей описание книг, которые он нашел у крестьян той волости, где была расположена его школа.
Первый номер «Ясной Поляны», после обращения «К публике», открывался статьей «О народном образовании». Статья была написана Толстым, но появилась без подписи, очевидно для указания на то, что статья выражает основные взгляды редакции.
25 января была разрешена цензурой первая «книжка» для детей, служившая приложением к «Ясной Поляне»; в ней был помещен пересказ яснополянскими школьниками повести «Матвей», с предисловием Толстого.
Во второй номер журнала вошли две его статьи – «О методах обучения грамоте» и «О свободном возникновении и развитии школ в народе» – и две статьи учителей школ.
Степень близости к природе или удаления от нее стала в "Трех смертях" критерием естественности или неестественности человеческого поведения, проверяемого тут перед лицом смерти. А в "Семейном счастье" семейные отношения, семейная привязанность спасают в конечном счете героиню от соблазна и совсем уж вроде бы возможного падения. Но упования Толстого на "чистое искусство" были недолгими, они охватывают период меньше чем в три года - с 1856 по 1859-й. Уже ранней осенью 1859 года начались занятия в организованной Толстым яснополянской школе.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поворот Толстого к педагогике был тоже достаточно крутым. Завоевав уже широкое признание, писатель уходил, как ему тогда казалось, из литературы навсегда и опасался лишь того, что литературная известность помешает современникам всерьез отнестись к его новому делу. Недоумение, действительно, было едва ли не всеобщим. А Толстой уже учил детей, затем стал открывать новые школы, издавать педагогический журнал "Ясная Поляна"... Его планы и на этот раз были громадны - опять целью было преобразование всей русской жизни.
Учениками в школах Толстого были крестьянские дети, не тронутые цивилизацией, не утратившие естественности, открытые и доверчивые. Учить же их призваны были интеллигенты, вооруженные всяческими знаниями. Предполагалось, что учащиеся и учителя в ходе занятий поделятся друг с другом - дети получат знания, а учителя воспримут детскую чистоту и непосредственность. В результате и должно было сложиться "единое человечье общежитие", если вспомнить здесь известную формулу Маяковского. Как видим, от задачи своей Толстой не отступал, менялись лишь пути ее решения.
Характер дарования Толстого вполне обеспечивал успех его деятельности в школе - в писательстве своем он ведь тоже был занят единственностью и многообразием индивидуальных человеческих развитий. Сам Толстой хорошо рассказал о том, как удивительно жила его школа. Однако цель, им себе поставленная, не достигалась и достигнута быть не могла - накопленные веками противоречия не снимались и таким способом. Убедившись в этом, Толстой стал терять к школе интерес, Произошло это к 1863 году.
"КАЗАКИ"
По мере охлаждения Толстого к школе у писателя постепенно всплывали его прежние литературные замыслы -практическое разрешение волновавших его вопросов явно не получалось, и его снова влекло в литературу.
Одним из наиболее ранних и устойчивых толстовских замыслов был замысел кавказской повести. Писатель длительное время провел на Кавказе. У него накопилось там немало собственных впечатлений, не совпадающих с романтической традицией изображения этого края. Не могли Толстого устроить и очерки кавказской жизни, начавшие появляться в 40-х годах и написанные в духе "натуральной школы": все здесь ограничивалось зарисовкой отдельных сторон кавказской повседневности. Кавказ в целом, как некий особый мир, так и продолжал оставаться средоточием всяческой экзотики и «дикой простоты".
У самого Толстого с самого начала его писательского пути, с 1852 года, подбирались разного рода заметки и наброски к повествованию о Кавказе. Но и у него они долго тяготели лишь к быто - и нравоописанию. А ограничить этим да еще противоборством с романтизацией Кавказа свою писательскую задачу Толстой не мог - ему так "не писалось".
Запас впечатлений, очевидно, давил на писателя, и, ища выхода, он даже попытался однажды начать свое кавказское повествование стихами, но тут же бросил, убедившись, что истинно поэтический характер произведению может придать лишь высота и значительность разрабатываемого содержания, какие тогда у него на "кавказском материале" не рождались. Так со своим кавказским замыслом Толстой надолго оказался в тупике.
Однако, как мы помним, вышедшее в 1856 году "Утро помещика" заканчивалось тем, что Нехлюдов, приехавший в деревню спасать мужиков, задумывался, "зачем он не Илюшка"... Перед толстовским героем возникала, очевидно, необходимость войти самому в простую жизнь, найдя для этого какие-то пути. Тут-то и открывались возможности кавказской темы.
В "Казаках", какими они сложились в конечном счете, молодой московский дворянин Дмитрий Оленин, никем не гонимый и не утесняемый, покидает, как ему представляется, навсегда Москву, свет. Покидает потому, что в Москве ему не любится и не живется, молодость проходит напрасно. Он едет на Кавказ, чтобы полюбить там "женщину гор", начать все заново и совсем по-другому.
Толстой отправляет своего героя в подобном настроении именно на Кавказ, помня, что здесь природа обладает особенной силой воздействия на человека, а простые люди не испытывали крепостной зависимости, совместная, общая жизнь их не была порушена, от горьких впечатлений от отношений с "господами" они свободны. Таким образом, встреча Оленина с жителями казачьей станицы могла явить собою поставленный в самом чистом виде и при наилучших условиях опыт сближения человека из "образованного сословия» с миром простых людей.
Поначалу все в "Казаках" складывается вроде бы благоприятно, даже счастливо. Горы Кавказа, а потом природа сразу же очищают душу Оленина. Он становится вольней, естественней во всех своих поступках, в поведении. Казаков, представленных Толстым как человеческое единство, он многим привлекает к себе: Ерошку тем, что проявляет внимание и интерес к рассказам старого казака, Марьяну - нежностью, мягкостью своего обращения с ней. Их даже тянет к Оленину - замкнутость, ограниченность собственного бытия, по всей видимости, уже не вполне может их самих удовлетворить. Но, когда Оленин хочет сблизиться с ними совершенно, они его отталкивают, чувствуя, что это разрушило бы цельность их существования, внесло бы в их души разлад. И ни Ерошка, ни Марьяна даже не взглянут вслед покидающему станицу Оленину. Да и Оленин не может и не должен, по Толстому, отрешиться от органической для него потребности в постоянном самоанализе, от присущей человеку "образованного состояния" сложной "моральной механики", неприемлемых в казачьем мире, герой возвращается в свой круг, сознавая, что обрекает себя этим на неизбежное душевное опустошение, но ничего иного перед ним сейчас нет.
"ВОЙНА И МИР"
В опыте, поставленном Толстым на кавказском материале, результат получился отрицательный. И тем самым развеивались, как будто окончательно, надежды указать современникам, что же им делать. Так оно и вышло бы, не будь Толстой по-прежнему неразрывно связан с жизнью, не отзывайся он на все, что рядом и вокруг происходило.
Крушение крепостнической системы ознаменовалось среди прочего и возвращением в столицы тех немногих декабристов, которые дожили до этой поры. С некоторыми из них Толстой встретился и поразился тому, как нравственно сохранны были эти столько пережившие люди, как возвышались они над средним уровнем общества, в которое теперь им приходилось вступить. Он и взялся соотнести "возвращающегося декабриста", распространяющего на все свой "строгой и несколько идеальный взгляд", с людьми новых поколений. В начатом повествовании писатель сразу же и резко противопоставляет бывшего декабриста, напряженно размышляющего о народе, в народе сейчас видящего "главную силу", всем, кто ринулся в мелкую и своекорыстную в конечном счете борьбу, кто погряз в злободневности.
Долго примерялся Толстой ко времени, которое должно было быть охвачено его новой книгой. Проникая постепенно в истоки характера героя, он пришел в конце концов к войнам с Наполеоном начала XIX века как к исходному моменту повествования. Рядом с героем появились и заняли место и многие другие лица.
В одном из черновиков предисловия к "Войне и миру" сам Толстой так рассказал о становлении своего исторического замысла: "...Я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым и семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала со славной для России эпохой 1812 года.....Но и в третий раз я оставил начатое...
между теми полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя отступила на задний план, и на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины и женщины того времени", "Замысел, "пробуя" эпохи, искал себе выражения и обрел его, соединившись с двенадцатым годом", - говорит современный исследователь.
"Ясная-Поляна" , журналъ педагогическiй, издаваемый гр. Л. Н. Толстымъ. Январь 1862.
"Время", No 3, 1862
Чтó стоитъ теперь на первомъ плане у всехъ нашихъ деятелей мысли и слова? Разумеется народъ. Народъ - первенствующiй предметъ вниманiя нашихъ политиковъ, публицистовъ, экономистовъ и иныхъ. Чего же хотятъ они для народа? Они хотятъ вопервыхъ устроить его хозяйственный бытъ и общественныя отношенiя по новому положенiю, разрешивъ наилучшимъ образомъ все вопросы, возникающiе при введенiи этого положенiя; вовторыхъ - дать народу возможность пользоваться новыми правами сознательно и разумно, къ чему вернейшимъ путемъ представляется распространенiе народнаго образованiя.
Первая задача вотъ уже годъ деятельно разработывается на практике, по указанной правительствомъ програме, и обществу остается только наблюдать за ходомъ этихъ работъ и, въ пределахъ возможности, освещать пройденный и предстоящiй имъ путь результатами своихъ наблюденiй. По второй задаче - люди, смотрящiе на предметъ просто и непосредственно, сводятъ итоги вновь открываемыхъ народныхъ школъ, считаютъ поступающихъ въ нихъ учениковъ, набираютъ для нихъ возможно-бóльшiй запасъ учителей, - значитъ предаются попреимуществу соображенiямъ арифметическимъ по предмету заготовленiя матерьяловъ для предстоящихъ работъ распространенiя образованiя. Но есть еще люди съ высшими взглядами, люди-теоретики, которые задались мыслью о воспитанiи народа, о необходимости и непременной обязанности образованнаго общества действовать на народъ, влiять на развитiе его понятiй, на возвышенiе его нравственности. Чтобы действовать на народъ, нужно подойти къ нему ближе, сблизиться съ нимъ... Но тутъ последовало странное разделенiе голосовъ: одни сказали, что сближенiе съ народомъ - пустая, либеральная фраза, стало-быть не стоитъ о немъ ни говорить, ни думать; другiе сказали, что прежде нежели сближаться, нужно получить способность къ сближенiю, которой мы не имеемъ, потомучто исказили свои понятiя наносными, несвойственными нашему народному духу началами, что народъ насъ никогда не пойметъ, отринетъ, не признаетъ своими; стало-быть нечего и пробовать подходить, сближаться. Само собою разумеется, что эти два крайнiе взгляда, не прямо противоположные между собою, но смотрящiе въ разныя стороны подъ какимъ-то неудобоизмеримымъ угломъ, не исключаютъ существованiя другихъ взглядовъ, и потому изъ всехъ ихъ оттенковъ образовалось множество презанимательныхъ толковъ, которые можетъ-быть еще нескоро кончатся.
Между темъ, пока люди-теоретики излагаютъ свои мысли о томъ: нужно ли намъ приблизиться къ народу, способны ли мы приблизиться къ нему, и какимъ путемъ и способомъ можемъ это сделать, - нашолся человекъ, который неспросясь теоретиковъ, прямо пошолъ навстречу народу, просящему духовной пищи, и предложилъ ему эту пищу съ необыкновенной простотой и естественностью. И человекъ этотъ вышелъ не изъ народа, а изъ той среды, которую по теорiи народъ долженъ не признавать, какъ чужую и незнакомую. Мы говоримъ о графе Л. Н. Толстомъ, имя котораго выставлено въ заглавiи нашей статьи. Читателямъ безъ сомненiя известно изъ прошлогодняго объявленiя объ изданiи журнала "Ясная-Поляна", что названiе этого журнала есть названiе именiя графа Толстого, въ тульской губернiи, где редактируется журналъ и где есть школа, любимейшее, какъ оказывается теперь, созданiе графа, или вернее сказать не созданiе, а только подъ наитiемъ его мысли само-собою образовавшееся нечто самородное, ни подъ какiя школьныя системы не подходящее: участiе графа Толстого въ образованiи яснополянской школы можно уподобить участiю химика въ образованiи кристала изъ приготовленнаго имъ раствора. Журналъ "Ясная-Поляна", сколько можно судить по первому нумеру и набросаннымъ въ немъ предположенiямъ, есть ничто иное какъ проведенiе заветной мысли о народномъ образованiи, которую долго носилъ въ душе гр. Толстой, и изложенiе наблюденiй надъ школой, для постепенной проверки этой мысли. Гр. Толстой не теоретикъ, а человекъ, бегущiй отъ теорiи на свободу, на чистый воздухъ, къ свежей, первобытной человеческой природе, просить у ней защиты отъ теорiи и совета, кàкъ ему поступать въ его деле. О его прiемахъ, о характере его деятельности, о его искренности, о любви, съ которою онъ приступаетъ къ делу, - обо всемъ этомъ можно заключить по несколькимъ строкамъ, въ которыхъ онъ обращается къ публике, по случаю вступленiя имъ на поприще.
"Мне становится страшно - говоритъ онъ - и за себя, и за те мысли, которыя годами выработывались во мне и которыя я считаю за истинныя. Я напередъ убежденъ, что многiя изъ этихъ мыслей окажутся ошибочными. Какъ бы я ни старался изучать предметъ, я невольно смотрелъ на него съ одной стороны. Надеюсь, что мои мысли вызовутъ противныя мненiя. Всемъ мненiямъ я съ удовольствiемъ дамъ место въ своемъ журнале. Одного я боюсь: чтобы мненiя эти не выражались жолчно, чтобы обсужденiе столь дорогого и важнаго для всехъ предмета, какъ народное образованiе, не перешло въ насмешки, въ личности, въ журнальную полемику. Я не скажу, что насмешки и личности не могутъ меня затронуть, что я надеюсь стоять выше ихъ. Напротивъ я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, какъ боюсь и за самое дело; боюсь увлеченья полемикой личной, вместо спокойной и упорной работы надъ своимъ деломъ."
Чтоже однако это за мысли, въ которыхъ самъ графъ Толстой предвидитъ что-то ошибочное, которыми между темъ онъ такъ дорожитъ, которыя такъ лелеетъ и за которыя такъ боится? Тутъ есть собственно одна большая и светлая мысль, царящая надъ всеми другими, частными мыслями. Эту-то мысль мы и намерены здесь изложить, ей собственно посвящаемъ нашу статью. Вотъ что думалъ графъ Толстой, прежде нежели практически приступилъ къ своему делу:
Всякiй народъ, какъ всякiй человекъ, по самому свойству ума человеческаго, ищетъ знанiй, желаетъ образованiя; всякое правительство, вместе съ высшими, образованными слоями общества, признаютъ долгомъ удовлетворять этой естественной потребности и стремятся распространять въ народе образованiе. Казалось бы, что изъ этихъ двухъ взаимныхъ стремленiй должно произойти удивительное согласiе и великiе результаты, т. е. почти всеобщее образованiе. Но на деле выходитъ совсемъ другое: на деле выходитъ то, что какъ только образовывающая сторона откроетъ свои действiя на народъ, последнiй оказываетъ противодействiе, и какбудто нехочетъ принимать предлагаемое ему образованiе. Этотъ отпоръ вызываетъ съ высшей стороны насилiе: или правительства прибегаютъ къ законодательнымъ мерамъ, делающимъ первоначальное образованiе для народа обязательнымъ (какъ въ Германiи), или образованные классы, принявъ на себя все хлопоты, употребляютъ необыкновенныя усилiя, действуютъ посредствомъ безчисленныхъ обществъ и т. п. (какъ въ Англiи). Не будь противодействiя со стороны народа, эти меры были бы ненужны; но оне, какъ известно, есть, стало-быть противодействiе существуетъ несомненно. Такимъ образомъ вместо согласiя, вместо гармоническаго сочетанiя двухъ взаимныхъ стремленiй, является борьба; вместо великаго результата - всеобщаго образованiя...
Однако чтоже это за явленiе, и чтó оно значитъ? перебиваете вы.
Позвольте. Чемъ отвечать теперь же на этотъ вопросъ, лучше прежде досказать, чтó именно выходитъ изъ народнаго противодействiя, съ трудомъ побеждаемаго quasi-благодетельными усилiями образовывающихъ... Распространяется грамотность и - не рапространяется образованiе; почти весь народъ делается грамотнымъ и почти весь остается совершенно необразованнымъ; выходя изъ школы, онъ уноситъ съ собою механическое уменье грамоты и счета, а все остальное, какбы принадлежащее школе и нисколько непринадлежащее ему и его жизни , оставляетъ тамъ, въ школе. И средства къ образованiю, которыя повидимому, должна была бы дать школа, народъ не употребляетъ въ дело, а бросаетъ, какъ что-то ему надоевшее, намозолившее ему умъ и память. Графъ Толстой убедился въ этомъ сделанными имъ лично наблюденiями въ разныхъ местахъ Европы. Онъ говоритъ напримеръ, что во Францiи въ городахъ народъ действительно цивилизованъ; но его цивилизовала, образовала его понятiя жизнь, - дешовыя изданiя, летучiе листки, публичныя библiотеки, театры, cafês-chantants и проч.; на всехъ его понятiяхъ лежитъ отпечатокъ этого рода образованiя, а того, чтó должна была-бы дать школа, следовъ нетъ. Но вне городовъ, где жизнь не цивилизуетъ, французскiй народъ глохнетъ въ полнейшемъ невежестве, хотя школы и здесь и тамъ одинаково устроены и везде ихъ достаточно. Наконецъ - что нетъ образованiя ни въ одной народной массе, это доказывается и темъ, что нетъ нигде народной, народу принадлежащей, имъ самимъ созданной литертуры...
Такъ чтóже это за явленiе, и чтó оно значитъ?
Графъ Толстой делаетъ предположенiе, что если образовывающее общество никогда неколебалось усиленно действовать на народъ, признавая его противодействiе незаконнымъ, то оно должно-быть имело какiя-нибудь основанiя думать, что образованiе, которымъ оно владело въ известной форме, было благо для известнаго народа и въ известную историческую эпоху. Какiя же эти основанiя? спрашиваетъ онъ. Какiя имеетъ основанiя школа нашего времени учить тому, а не этому, учить такъ, а не иначе? Отыскивая этихъ основанiй въ педагогике, графъ Толстой приходитъ между прочимъ къ следующему:
"Проследивъ ходъ исторiи философiи педагогики, вы найдете въ ней не критерiумъ образованiя, но напротивъ одну общую мысль, безсознательно лежащую въ основанiи всехъ педагоговъ, несмотря на ихъ частое между собою разногласiе, мысль, убеждающую насъ въ отсутствiи этого критерiума. Все они, начиная отъ Платона и до Канта, стремятся къ одному - освободить школу отъ историческихъ узъ, тяготеющихъ надъ нею ; хотятъ угадать то, что нужно человеку, и на этихъ более или менее верно угаданныхъ потребностяхъ строятъ свою новую школу. Лютеръ заставляетъ учить въ подлиннике священное писанiе, а не по коментарiямъ святыхъ отцовъ. Бэконъ заставляетъ изучать природу изъ самой природы, а не изъ книгъ Аристотеля. Руссо хочетъ учить жизни изъ самой жизни, какъ онъ ее понимаетъ, а не изъ прежде бывшихъ опытовъ. Каждый шагъ философiи педагогики впередъ состоитъ только въ томъ, чтобы освобождать школу отъ мысли обученiя молодыхъ поколенiй тому, чтó старыя поколенiя считали наукою, къ мысли обученiя тому, чтò лежитъ въ потребностяхъ молодыхъ поколенiй. Одна эта общая, и вместе съ темъ противоречащая сама себе мысль чувствуется во всей исторiи педагогики, - общая потому, что все требуютъ бòльшей меры свободы школъ; противоречащая потому, что каждый предписываетъ законы, основанные на своей теорiи, и темъ самымъ стесняетъ свободу."
Чтоже такое школы нашего времени? Дошли ли оне до полной меры свободы? вышли ли изъ вечнаго противоречiя? Вотъ что показали графу Толстому наблюденiя надъ современной действительностью:
"Отецъ (это разумеется о Германiи) посылаетъ дочь или сына въ школу противъ своего желанiя, кляня учрежденiе, лишающее его работы сына, и считая дни до того времени, какъ сынъ сделается Schulfrei (одно это выраженiе показываетъ, какъ смотритъ народъ на школы).
"Ребенку школа представляется учрежденiемъ для мученiя детей, - учрежденiемъ, въ которомъ лишаютъ ихъ главнаго удовольствiя и потребности детскаго возраста - свободнаго движенiя , где Gehorsam! (послушанiе) и Ruhe! (спокойствiе) - главныя условiя.
"Всякое ученiе должно быть только ответомъ на вопросъ, возбужденный жизнью. Но школа нетолько не возбуждаетъ вопросовъ, она даже не отвечаетъ на те, которые возбуждены жизнью. Она постоянно отвечаетъ на одни и теже вопросы, несколько вековъ тому назадъ поставленные человечествомъ, а не детскимъ возрастомъ, до которыхъ еще нетъ дела ребенку. Это вопросы о томъ: какъ сотворенъ мiръ? кто былъ первый человекъ? что было тому 2,000 летъ назадъ? какая земля Азiя? какую имеетъ форму земля? какимъ образомъ помножать сотни на тысячи? что будетъ после смерти и т. п. На вопросы же, представляющiеся ему изъ жизни, онъ не получаетъ ответа, темъ более, что по полицейскому устройству школы, онъ не имеетъ права открыть рта даже для того, чтобъ попроситься на дворъ, а долженъ это делать знаками.
"Школы учреждаются такъ потому, что цель правительственной школы, учрежденной свыше, заключается бóльшей частью не въ томъ, чтобъ образовать народъ, а чтобы образовать его по нашей методе.
"Школы учреждаются не такъ, чтобы детямъ было удобно учиться, но такъ, чтобы учителямъ было удобно учить. Учителю неудобны говоръ, движенiе, веселость детей, составляющiя для нихъ необходимое условiе ученiя , и въ школахъ запрещены вопросы, разговоры и движенiе.
"Стоитъ взглянуть на одного и того же ребенка дома, на улице или въ школе: то вы видите жизнерадостное, любознательное существо, съ улыбкой въ глазахъ и на устахъ, во всемъ ищущее поученiя какъ радости, ясно и часто сильно выражающее свои мысли своимъ языкомъ; то видите измученное, сжавшееся существо, съ выраженiемъ усталости, страха и скуки, повторяющее однеми губами чужiя слова на чужомъ языке, - существо, котораго душа, какъ улитка, спряталась въ свой домикъ. Стоитъ взглянуть на эти два состоянiя, чтобы решить, которое изъ двухъ более выгодно для развитiя ребенка. То странное психологическое состоянiе, которое я назову школьнымъ состоянiемъ души, которое мы все къ несчастью такъ хорошо знаемъ, состоитъ въ томъ, что все высшiя способности - воображенiе, творчество, соображенiе - уступаютъ место какимъ-то другимъ полживотнымъ способностямъ - произносить звуки независимо отъ воображенiя, считать числа сряду 1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, недопуская воображенiю подставлять подъ нихъ какiе-нибудь образы; однимъ словомъ - способность подавлять въ себе все высшiя способности, для развитiя только техъ, которыя совпадаютъ съ школьнымъ состоянiемъ: страхъ, напряженiе памяти и вниманiе."
По этимъ отличительнымъ чертамъ современной намъ народной школы кажется нетрудно дойти до объясненiя того противодействiя, которое всюду инстинктивно оказываетъ народъ усилiямъ образовывающихъ; а еще легче объяснить этими чертами печальные плоды победы, одерживаемой усилiями образовывающихъ надъ народнымъ противодействiемъ, т. е. понятно делается, отчего дети народа, выходя изъ школы, выносятъ съ собою только то чтò могло быть воспринято въ одуряющей атмосфере, полживотными способностями, и вследствiе того остаются совершенно необразованными.
Собравъ эти невеселыя наблюденiя и посмотревъ потомъ на русскiй народъ, графъ Толстой подумалъ: хорошо немцамъ, на основанiи двухсотлетняго существованiя школы, исторически защищать ее; но на какомъ основанiи намъ защищать народную школу, которой у насъ нетъ? Какое мы имеемъ историческое основанiе говорить, что наши школы должны быть такiя же, какъ и европейскiя школы? Мы не имеемъ еще исторiи народнаго образованiя... Чтоже намъ делать въ настоящую минуту? И вотъ его ответъ на эту крепкую думу, вотъ решенiе вопроса:
"Перестанемъ - говоритъ онъ - смотреть на противодействiе народа нашему образованiю какъ на враждебный элементъ педагогики, а напротивъ будемъ видеть въ немъ выраженiе воли народа, которой одной должна руководиться наша деятельность. Сознàемъ наконецъ тотъ законъ, который такъ ясно говоритъ намъ и изъ исторiи педагогики, и изъ исторiи всего образованiя, что для того, чтобы образовывающему знать чтò хорошо и чтó дурно, образовывающiйся долженъ иметь полную власть выразить свое неудовольствiе, или по крайней мере уклониться отъ того образованiя, которое по инстинкту не удовлетворяетъ ему, что критерiумъ педагогики есть только одинъ - свобода.
"Мы избрали - прибавляетъ графъ Толстой - этотъ последнiй путь въ нашей педагогической деятельности. Основанiемъ нашей деятельности служитъ убежденiе, что мы нетолько не знаемъ, но и не можемъ знать того, въ чемъ должно состоять образованiе народа, что нетолько не существуетъ никакой науки образованiя и воспитанiя - педагогики , но что первое основанiе ея еще не положено, что определенiе педагогики и ея цели въ философскомъ смысле невозможно, безполезно и вредно. "
Таково воззренiе, съ которымъ графъ Толстой пошолъ навстречу къ детямъ народа. Мы сказали, что онъ не теоретикъ. Читатели безъ сомненiя видятъ, имели ли мы право сказать это; видятъ они вероятно и то, что его нельзя также упрекнуть въ искаженiи своихъ понятiй наносными началами: более полнаго и более искренняго отреченiя отъ всякихъ наносныхъ теорiй и началъ кажется уже нельзя требовать. Что касается до чувства, то... помните слова: не возбраняйте детямъ приходить ко мне ? Кажется, что этотъ заветъ невозбранности составляетъ единственное верованiе, которое основатель яснополянской школы оставилъ у себя въ душе, начиная свое педагогическое дело. Намъ остается подтвердить это несколькими местами изъ описанiя яснополянской школы, местами, которыя вместе покажутъ, кáкъ графъ Толстой осуществляетъ на деле свое воззренiе.
Въ яснополянской школе бываетъ отъ 30 до 40 учениковъ и ученицъ; но она, "какъ всякое живое существо, нетолько съ каждымъ годомъ, днемъ и часомъ видоизменяется, но и подвержена временнымъ кризисамъ, невзгодамъ, болезнямъ и дурнымъ настроенiямъ." Школа помещается въ отдельномъ каменномъ двухъ-этажномъ доме, расположонномъ на местности, отделенной отъ деревни оврагомъ. Въ этомъ же доме живутъ и учителя; у нихъ обыкновенно ночуютъ некоторые изъ учениковъ. Часовъ въ восемь утра учитель посылаетъ кого-нибудь изъ мальчиковъ звонить въ подвешенный у крыльца колокольчикъ. Мальчикъ звонитъ.
"... Черезъ полчаса после звонка, въ тумане, въ дожде или въ косыхъ лучахъ осенняго солнца, появляются на буграхъ темныя фигурки по две, по три и поодиночке. Табунное чувство уже давно исчезло въ ученикахъ. Ужь нетъ необходимости ему дожидаться и кричать: "Эй! ребета, въ училищу!" Ужь онъ знаетъ, что училище средняго рода, много кой-чего другого знаетъ и - странно! - вследствiе этого не нуждается въ толпе. Пришло ему время, онъ и идетъ. Мне съ каждымъ днемъ кажется, что все самостоятельнее и самостоятельнее делаются личности и резче ихъ характеры... Съ собою никто ничего не несетъ - ни книгъ, ни тетрадокъ. Уроковъ на домъ не задаютъ.
"Мало того, что въ рукахъ ничего не несутъ, имъ нечего и въ голове нести. Никакого урока, ничего сделаннаго вчера онъ не обязанъ помнить ныньче. Его не мучаетъ мысль о предстоящемъ уроке. Онъ несетъ только себя, свою воспрiимчивую натуру и уверенность въ томъ, что въ школе ныньче будетъ весело также, какъ вчера. Онъ не думаетъ о классе до техъ поръ, пока классъ не начался. Никогда никому не делаютъ выговоровъ за опаздыванье и никогда не опаздываютъ: нешто старшiе, которыхъ отцы другой разъ задержатъ дома какою-нибудь работой. И тогда этотъ большой рысью, запыхавшись, прибегаетъ въ школу. Пока учитель еще не пришолъ, они собираются кто около крыльца, толкаясь съ ступенекъ или катаясь на ногахъ по ледочку раскатанной дорожки, кто въ школьныхъ комнатахъ. Когда холодно, - ожидая учителя читаютъ, пишутъ или возятся. Девочки не мешаются съ ребятами. Когда ребята затеваютъ что-нибудь съ девочками, то никогда не обращаются къ одной изъ нихъ, а ко всемъ вместе: "Эй, девки! что не катаетесь?" или: "девки-то вишь замерзли", или: "ну, девки, выходи все на меня одного!" Только одна изъ девочекъ, дворовая, съ огромными и всесторонними способностями, летъ десяти, начинаетъ выходить изъ табуна девокъ. И съ этой только ученики обращаются какъ съ равной, какъ съ мальчикомъ, только съ тонкимъ оттенкомъ учтивости и снисходительности и сдержанности.
"Учитель приходитъ въ комнату, а на полу лежатъ и пищатъ ребята, кричащiе: "мала куча!" или "задавили ребета!" или "будетъ! брось - виски-то" и т. д. "Петръ Михайловичъ!" кричитъ снизу кучи голосъ входящему учителю: - "вели имъ бросить". "Здраствуй, Петръ Михайловичъ!" кричатъ другiе, продолжая свою возню. Учитель беретъ книжки, раздаетъ темъ, которые съ нимъ пошли къ шкапу; изъ кучи на полу верхнiе лежа требуютъ книжку. Куча понемногу уменьшается. Какъ только большинство взяло книжки, все остальные уже бегутъ къ шкапу и кричатъ: "и мне, и мне!" "Дай мне вчерашнюю", "а мне кольцовую " и т. п. Ежели останутся еще какiе-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающiе валяться на полу, то сидящiе съ книгами кричатъ на нихъ: "Чтò вы тутъ замешались? ничего не слышно. Будетъ!" Увлеченные покоряются и запыхавшись берутся за книги, и только въ первое время, сидя за книгой, поматываютъ ногой от неулегшагося волненiя. Духъ войны улетаетъ и духъ чтенiя воцаряется въ комнате. Съ темъ же увлеченiемъ, съ какимъ онъ дралъ за виски Митьку, онъ теперь читаетъ кольцовую книгу (сочиненiя Кольцова), чуть не стиснувъ зубы, блестя глазенками и ничего невидя вокругъ себя, кроме своей книги... Садятся они где кому вздумается: на лавкахъ, столахъ, подоконнике, полу и кресле..."
"По росписанiю до обеда значится четыре урока, а выходитъ иногда три или два, и иногда совсемъ другiе предметы. Учитель начнетъ арифметику и перейдетъ къ геометрiи; начнетъ священную исторiю, а кончитъ граматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вместо одного часа классъ продолжается три часа. Бываетъ, что ученики сами кричатъ: "Нетъ! еще, еще!" и кричатъ на техъ, которымъ надоело. "Надоело, такъ ступай къ маленькимъ!" говорятъ они презрительно."
Еще одна картина - и вамъ будетъ совершенно ясенъ характеръ занятiй въ яснополянской школе.
"Все вечернiе уроки (говоритъ гр. Толстой), а особенно первый, имеютъ совершенно особенный отъ утреннихъ характеръ спокойствiя, мечтательности и поэтичности. Придите въ школу сумерками - огня въ окнахъ невидно, почти тихо, только вновь натасканный снегъ на ступени лестницы, слабый гулъ и шевеленье за дверью, да какой-нибудь мальчуганъ, ухватившись за перилы, черезъ две ступени шагающiй наверхъ по лестнице, доказываютъ, что ученики въ школе. Войдите въ комнату. Ужь почти темно за замерзшими окнами; старшiе, лучшiе ученики прижаты другими къ самому учителю и задравъ головки смотрятъ ему прямо въ ротъ. Дворовая самостоятельная девочка съ озабоченнымъ лицомъ сидитъ всегда на высокомъ столе - такъ и кажется каждое слово глотаетъ; по плоше, ребята-мелкота, сидятъ по дальше: они слушаютъ внимательно, даже сердито, они держатъ себя такъ же какъ и большiе; но несмотря на все вниманiе, мы знаемъ, что они ничего не раскажутъ, хотя и многое запомнятъ... Когда идетъ новый расказъ - все замерли, слушаютъ. Когда повторенiе - тутъ и тамъ раздаются самолюбивые голоса, немогущiе выдержать, чтобъ не подсказать учителю. Впрочемъ и старую исторiю, которую любятъ, они просятъ учителя повторить всю своими словами и не позволяютъ перебивать учителя. "Ну ты, не терпится! молчи!" крикнутъ на выскочку. Имъ больно, что перебиваютъ характеръ и художественность расказа учителя. Последнее время это была исторiя жизни Христа. Они всякiй разъ требовали расказать ее всю... Кажется все мертво, не шелохнется, - не заснули ли? Подойдешь въ полутьме, взглянешь въ лицо какому-нибудь маленькому - онъ сидитъ, впившись глазами въ учителя, сморщивши лобъ отъ вниманiя, и десятый разъ отталкиваетъ съ плеча навалившуюся на него руку товарища. Вы пощекотите его за шею - онъ даже не улыбнется, согнетъ головку, какъ будто отгоняясь отъ мухи, и опять весь отдастся таинственному и поэтическому расказу: какъ сама разорвалась церковная завеса и темно сделалось на земле - ему и жутко, и хорошо. Но вотъ учитель кончилъ расказывать, и все поднимаются съ места и толпясь къ учителю, перекрикивая одинъ другого, стараются пересказать все что удержано ими. Крикъ поднимается страшный, - учитель насилу можетъ следить за всеми. Те, которымъ запретили говорить, въ уверенности, что они знаютъ, не успокоиваются этимъ: они приступаютъ къ другому учителю, ежели его нетъ - къ товарищу къ постороннему, къ истопнику даже, ходятъ изъ угла въ уголъ подвое, потрое, прося каждаго ихъ послушать."
Случается, что послеобеденные классы въ яснополянской школе оканчиваются совершенно особеннымъ и неожиданнымъ образомъ. Напримеръ передъ праздникомъ, когда дома печки приготовлены париться, вдругъ два-три мальчика забегаютъ, торопливо разбирая шапки. - "Что вы?" - Домой! - "А учиться? ведь пенье!" - А ребета говорятъ домой! отвечаетъ мальчикъ, ускользая съ своей шапкой. - "Да кто говоритъ?" - Ребета пошли! - "Какже, какъ?" спрашиваетъ озадаченный учитель: - "останься!" Но въ комнату вбегаетъ другой мальчикъ съ разгоряченнымъ, озабоченнымъ лицомъ. "Что стоишь?" сердито нападаетъ онъ на удержаннаго, который въ нерешительности заправляетъ хлопки въ шапку: - "ребета ужь воонъ где, у кузни ужь небось." - Пошли? - "Пошли." И оба бегутъ вонъ, изъ-за двери крича: "Прощайте, Иванъ Иванычъ!" И кто такiе эти ребята, которые решили идти домой, какъ они решили? - Богъ ихъ знаетъ. Учителю обидно и непрiятно, но - чтоже делать? Подобному внезапному бегству не препятствуютъ на томъ основанiи, что одинъ такой случай съ избыткомъ вознаграждается десятью другими, когда мальчики съ полной охотой и одушевленiемъ выдерживаютъ несколько уроковъ сряду и всегда бегутъ въ школу весело, съ радостью.
Описанный въ вышеприведенныхъ местахъ внешнiй безпорядокъ школы графъ Толстой находитъ полезнымъ и незаменимымъ. Полезность и незаменимость его конечно прямо вытекаетъ изъ самаго воззренiя его на школу; о мнимомъ же неудобстве этаго безпорядка или "свободнаго порядка" онъ говоритъ, что въ подобныхъ случаяхъ употребляютъ люди насилiе только вследствiе поспешности и недостатка уваженiя къ человеческой природе; что имъ кажется, безпорядокъ растетъ, растетъ и нетъ ему пределовъ; кажется нетъ другого средства прекратить его, какъ употребить силу, а между темъ стоило бы только немного подождать, и безпорядокъ улегся бы самъ собой въ порядокъ гораздо лучшiй и прочнейшiй. "Школьники - люди, хоть маленькiе, но люди имеющiе теже потребности (естественныя) какiя и мы, и теми же путями мыслящiе; они все хотятъ учиться, затемъ только ходятъ въ школу, и потому имъ весьма легко дойти до заключенiя, что нужно подчиняться известнымъ условiямъ, для того чтобы учиться. Мало того: они - общество людей, соединенное одной мыслью. А где трое соберутся во имя Мое, и Я между ними.
Графъ Толстой убежденъ, что школа не должна вмешиваться въ дело воспитанiя, подлежащее семейству, не должна и не имеетъ права награждать и наказывать; но онъ признается, что въ яснополянской школе случалось изменять этому убежденiю, въ силу старой привычки. Онъ расказываетъ одинъ случай: какъ одинъ мальчикъ (дворовый, изъ дальней деревни) былъ обличенъ въ воровстве и преданъ суду товарищей; какъ одни изъ нихъ полагали высечь преступника, другiе - наказать стыдомъ, нашивши ему на спину ярлыкъ съ надписью "воръ"; какъ было принято и исполнено последнее предложенiе и какъ оно не произвело желаннаго действiя: мальчикъ попался во вторичномъ воровстве, и товарищи решили было повторить надъ нимъ тоже наказанiе; но когда стали нашивать ярлыкъ, графъ Толстой, наблюдая лицо преступника, почувствовалъ, что делается что-то недоброе; онъ не выдержалъ, сорвалъ ярлыкъ и отпустилъ мальчика на все четыре стороны. "Я убедился, говоритъ онъ въ заключенiе этого расказа - что есть тайны души, закрытыя отъ насъ, на которыя можетъ действовать жизнь, а не нравоученья и наказанья. И что за дичь? мальчикъ укралъ книгу, - целымъ длиннымъ, многосложнымъ путемъ чувствъ, мыслей, ошибочныхъ умозаключенiй приведенъ былъ къ тому, что взялъ чужую книжку и зачемъ-то заперъ ее въ свой сундукъ, - а я налепляю ему бумажку съ словами "воръ", которыя значатъ совсемъ другое! Зачемъ? Наказать его стыдомъ, скажутъ мне. Наказать его стыдомъ? Зачемъ? Что такое стыдъ? И разве известно, что стыдъ уничтожаетъ наклонность къ воровству? Можетъ-быть онъ поощряетъ ее. То, что выражалось на его лице, можетъ-быть было не стыдъ? Даже наверно я знаю, что это былъ не стыдъ, а что-то совсемъ другое, что можетъ-быть спало бы всегда въ его душе и что не нужно было вызывать. Пускай тамъ, въ мiре, который называютъ действительнымъ, въ мiре Пальмерстоновъ, Каэнъ, - въ мiре, где разумно не то, что разумно, а то, что действительно, - пускай тамъ люди, сами наказанные, выдумаютъ себе права и обязанности наказывать. Нашъ мiръ детей - людей простыхъ, независимыхъ - долженъ оставаться чистъ отъ самообманыванья и преступной веры въ законность наказанiя, веры и самообманыванья въ то, что чувство мести становится справедливымъ, какъ скоро его назовемъ наказанiемъ..."
Теперь мы должны еще показать характеръ отношенiй графа Толстого къ этимъ "крестьянскимъ ребятишкамъ", какъ называютъ ихъ у насъ въ просторечiи; безъ того будетъ недовольно видно, въ какой степени онъ веренъ своимъ воззренiямъ на деле; а это очень важно, потомучто воззренiй намъ не занимать стать, но мы только какъ-то затрудняемся осуществлять ихъ собственной личной деятельностью, въ простой, вседневной жизни. Попробуемъ характеризовать эти отношенiя однимъ случаемъ, одной прогулкой, о которой между прочимъ расказываетъ графъ Толстой. Вотъ какъ было дело.
Была зимняя безмесячная ночь, съ тучами на небе; ученики и вместе съ ними графъ Толстой вышли изъ школы, только-что начитавшись гоголевскаго Вiя . На перекрестке, где имъ надо было разойтись, остановились, и несколько старшихъ учениковъ стали просить графа проводить ихъ еще. "Пойдемъ въ заказъ ", сказалъ одинъ. Это - небольшой лесъ, шагъ въ двухстахъ отъ жилья. Пошли вчетверомъ: графъ Толстой, Федька - мальчикъ летъ десяти, нежная, воспрiимчивая, поэтическая и лихая натура; Семка - малый летъ двенадцати, здоровенный физически и морально, съ математическимъ складомъ ума, и Пронька - болезненный, кроткiй и даровитый мальчикъ. Шли они къ лесу и Федька все заговаривалъ, то вспоминая, какъ онъ на этомъ месте летомъ стерегъ лошадей, то утверждая, что ничего не страшно, то спрашивая: "чтò если какой-нибудь выскочитъ?" Разговарились о кавказскихъ разбойникахъ, и графъ сталъ имъ повторять когда-то уже слышанные ими отъ него расказы объ абрекахъ, о казакахъ, о Хаджи-Мурате. Здесь следуетъ замечанiе, что крестьянскiя дети не любятъ всякихъ ласкъ - нежныхъ словъ, поцелуевъ, троганiй рукою и т. п.
Потому-то (говоритъ г. Толстой) меня особенно поразило, когда Федька, шедшiй рядомъ со мной, въ самомъ страшномъ месте расказа вдругъ дотронулся до меня слегка рукавомъ, потомъ всей рукой ухватилъ меня за два пальца и уже не выпускалъ ихъ... Я кончилъ расказъ темъ, что окружонный абрекъ запелъ песни и потомъ самъ бросился на кинжалъ. Все молчали.
"-- Зачемъ-же онъ песню запелъ, когда его окружили? спросилъ Семка.
"-- Ведь тебе сказывали - умирать собрался! отвечалъ огорченно Федька.
"-- Я думаю, это молитву онъ запелъ, прибавилъ Пронька.
"Все согласились. Федька остановился вдругъ.
"-- А какъ вы говорили, вашу тетку зарезали? спросилъ онъ. Ему мало еще было страховъ!
"-- Раскажи! раскажи!
"Я расказалъ имъ еще разъ страшную исторiю убiйства графини Толстой, и они молча сидели вокругъ меня, глядя мне въ лицо."
Путешественники прошли краемъ леса и остановились въ роще, за гумнами. Семка взялъ изъ снегу хворостину и сталъ колотить ею по сучьямъ липы.
Л. Н.! вдругъ заговорилъ Федька: - для чего учиться пенью? Я часто думаю право, зачемъ петь?
Вопросъ былъ - о значенiи искуства. Завязался общiй разговоръ, начались разъясненiя общими силами, посредствомъ другихъ вопросовъ: зачемъ рисовать? зачемъ хорошо писать? зачемъ ростетъ липа и на что она пригодна, пока не срублена? Кончилось темъ, что все поняли значенiе искуства, каждый съ оттенкомъ, свойственнымъ его натуре.
"Семка понималъ своимъ большимъ умомъ, но не признавалъ красоты безъ пользы. Онъ сомневался, какъ это часто бываетъ съ людьми большого ума, чувствующими, что искуство есть сила, но нечувствующими въ свой душе потребности этой силы. Федька совершенно понималъ, что липа хороша въ листьяхъ и летомъ хорошо смотреть на нее, и больше ничего ненадо. Пронька понималъ, что жалко ее срубить, потомучто она тоже живая: "ведь это все равно что кровь, когда изъ березы сокъ пьемъ."
Прогулка кончилась темъ, что вошли въ деревню, и мальчики одинъ за другимъ разошлись по домамъ, говоря: "Прощайте, Л. Н.!"
Мы кончили о "Ясной-Поляне". Тутъ конечно не все: въ описанiи школы есть много педагогическихъ фактовъ; расказывается напримеръ о томъ, какъ долго немогли тамъ добиться, чтобъ ученики бегло читали, какiе употребляли искуственные прiемы, неимевшiе никакого успеха, и какъ наконецъ сами ученики напали на свой прiемъ и достигли цели; расказыавается о трудности выбора книгъ для чтенiя, и пр. и пр. Но все это мы опускаемъ, потомучто все это подлежитъ обсужденiю педагоговъ-спецiалистовъ, - имъ предоставляется и критика яснополянской школы. Мы впрочемъ очень сомневаемся, чтобъ наши педагоги обратили на нее какое-нибудь вниманiе. Въ ней ведь нетъ рутины. Намъ же нужно было только указать на дорогу, по которой пошолъ гр. Толстой, направляясь прямо къ сердцу такъ-называемой "меньшой братiи", - дорогу, по которой кажется еще никто у насъ не ходилъ и на которую нельзя вступать съ одной головой, хотя бы и вооружонной принципомъ, - ужь лучше безъ принципа, но съ чистымъ, живымъ, не замореннымъ сердцемъ... Мы не хотимъ никого уверять въ безошибочности всехъ настоящихъ и будущихъ действiй графа Толстого, но мы уверены, что онъ сознается во всехъ своихъ ошибкахъ, если оне будутъ, - сознается такъ же просто и чистосердечно, какъ просто и чистосердечно делаетъ свое дело. Ему, отрешившемуся отъ всякихъ теорiй и началъ, нечего отстаивать, незачто бояться; за основную мысль его - о праве народа требовать и ждать образованiя, ему потребнаго, и не принимать ненужнаго и навязываемаго, - за эту мысль бояться невозможно; невозможно также бояться и за единственную характеристическую черту его отношенiй къ детямъ, потомучто черта эта - полнейшая свобода и отсутсвiе всякаго нравственнаго посягательства на чужую, хотя бы и маленькую личность.